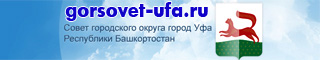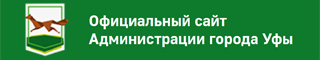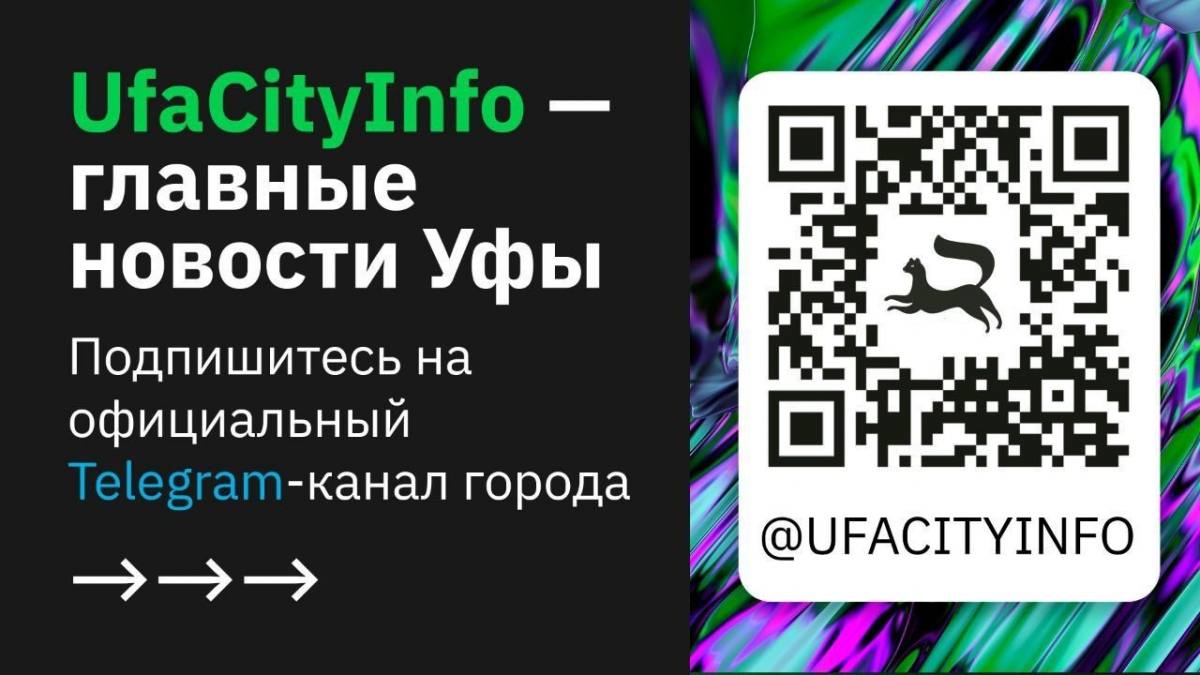Айрат ЕНИКЕЕВ: «Терпи меня, Питер, терпи!»
Айрат Марсович Еникеев изначально впечатлял меня своей фантастической индивидуальной приспособленностью к такому инструменту, как поэтическая лира. Марсыч, как мы его звали в редакции, всегда был настоящим поэтом, из-под разлета его пера никогда не вспархивало ни одной дешевой рифмы, и в его творческой лаборатории не рождалось самодеятельных виршей. И это при том, что Айрат был балагуром, потешником и мог заболтать тебя до смерти. Остроумие – это второе имя Еникеева, который был мастером на штучное шутливое словцо и блистательно писал фельетоны. Как в нем все это уживалось? До сих пор ума не приложу.
Девять лет назад Айрат с семьей переехал в Северную Пальмиру, и град Петров, прямо по Пастернаку, раскатом своих берегов и улиц начал менять вектор еникеевских опытов в стихах и в прозе. Его лирика ныне более графична, подчас напоминает рисунок, который, словно летящий набросок мысли, был тонким пером начертан на полях рождающейся книги. Его стихи стали глубже, теперь они полнятся воздухом города на Неве, по коему уже не пошарахаешься в старом растянутом свитере и не встретишь, как в любимой Уфе, родную душу, ждущую тебя в каждом сквере или дворе...
Чувствуется, что в Питере ему подчас знобко и не с каждым человеком он мог бы вот так запросто заговорить... Но Петербург стал для Айрата своего рода лабораторией, благодаря чему Еникеев-поэт поднялся, наконец, над Еникеевым-журналистом, выпустив из сознания и души то, что было предначертано Айрату рукой кого-то свыше...
И скоро должна выйти книга с питерскими стихами нашего друга Айрата Еникеева.
Марсыч, по-моему, то, что ты присылаешь нам в Уфу из Питера уже во второй подборке – прекрасно!
Илюзя КАПКАЕВА
.***
Апрельский ветер,
выпивший пацан,
как меломан, наслушавшийся Цоя,
на время затихает у крыльца
и достает кисет с густой пыльцою.
Крыльцо разит березой и дождем,
крыльцо скрипит, пропитано тоскою.
И пьяный ветер с пьяною доскою
поют, что мы все непременно ждем.
Ну наконец-то!
Девушка прошла
по мокрой и певучей древесине,
и крышкою на старом клавесине
закрылась дверь, молчанием грешна.
Пора уйти с уснувшего крыльца,
где ветерок досматривает грезы
и без разбору горькая пыльца
летит в глаза и вызывает слезы.
Завтрак аристократа
Санкт-Петербург.
Начала октябрей
всегда рождают аппетитный запах –
глазунью луж с желтками фонарей
ты подаешь себе на ранний завтрак.
Санкт-Петербург, твой ритуал не нов,
привычкой пить до одури навеян –
стакан двора наполнен до краев
вином дождя, как марочным
портвейном.
Санкт-Петербург, как ты устал,
мой друг,
взирать на чьи-то мелкие злодейства,
зажав в зубах изысканный мундштук
туманного с утра Адмиралтейства.
Своих манжет роскошных острова
ты поправляешь, не скрывая лоска,
и стряхиваешь крошки с рукава
на прочий мир в застиранных обносках.
***
Осенний воздух – беспощадный тать,
острейший нож, вонзенный в грудь
надолго.
И вкус листвы, стекающий по долу,
не позволяет легкому устать
гонять в себе пронзительную жизнь,
чтоб не дал Бог замедлиться на отдых,
и осязать, как истово дрожит
там, где насечка переходит в обух.
И осень так отчаянно свежа,
так ярок миг подаренного шанса,
что ты уже не можешь надышаться
от счастья жить на лезвии ножа!
Листопад. Эпитафия
О, павшая листва!
Боготворю
смешение твоих бойцовских качеств,
когда под крик «сдавайся!»
трубный грачий
ты погибаешь только к ноябрю.
Твой золотой пластинчатый доспех,
в котором ты выходишь в гром оваций,
нас учит умирать, но не сдаваться
без всякой тени на лихой успех.
Фурор на бранном поле сентября
сменяется побоищем предзимья –
Харон тела в горящие корзины
сметает, на таджикском говоря.
О где бы взять мне мужество твое
в заведомой на пораженье битве,
где не спасет ни поп в седой молитве,
ни лекарь с дорогущим мумие.
У доблести сгоранья на кострах
есть жертвенного сердца пониманье,
что где-то в марте, но не позже мая
родятся те, кому неведом страх!
***
Терпи меня, Питер, терпи!
Мой серый изношенный свитер
с измученным сердцем внутри.
Терпи меня, Питер, терпи!
Я старый прогорклый татарин,
я в масле просроченном сварен
в далекой уральской степи.
Терпи меня, Питер, терпи!
Терпи меня, Питер, терпи!
Пустые тупые поездки...
как рыба срывается с лески...
Терпи меня, Питер, терпи!
Елеем меня окропи
ближайшего храма Господня,
где рядом метро как в исподнем...
Терпи меня, Питер, терпи!
Твоих деревянных стропил
я слышу звенящую чащу.
Я рядом, я свой, настоящий!
Терпи меня, Питер, терпи!
Элегия
Вид из сестрорецких окон
на Финский залив.
Какие дни сгорают просто так!
в костре перед больничною палатой,
где рвется лето, словно пес кудлатый,
сбегать без разрешения мастак.
И бесполезно пялиться в залив.
Тебя, как пса, не выпустят наружу,
в обмен даря тарелку спелых слив
и осами засиженную грушу.
Так манит неостывшая вода!
На градуснике жарких двадцать восемь…
И очень страшно знать, что эта осень
уже не повторится никогда.
Исповедь солдата
Он говорил, что смерть его невеста,
и он повенчан с ней с тех самых пор,
когда свое раскрашенное детство
рисунками расстреливал в упор.
Мне страх неведом, говорил солдат,
в любом бою свое я знаю место,
ведь за спиною верная невеста,
хозяйка скорбных и гранитных дат.
Где б ни был я – на суше и в воде,
в земной грязи или отмыт до скрипа,
она стоит внутри дагерротипа
со мною рядом в дымчатой фате.
Не завершится браком наш союз,
нам до объятий ждать не знаю сколько,
поэтому ни пули не боюсь,
ни острого горячего осколка.
Касаясь ветром жаркого лица,
она кружится рядом в ритме вальса,
и старый шрам на безымянном пальце –
как след от обручального кольца.
Дикие побеги
Когда сердца оттаивают в мае,
детдомовские девочки бегут
к своей красивой выдуманной маме,
прокляв казенный штапельный уют.
Их бег неистов, словно птичий гон,
свой путь определяющий по солнцу,
и образ мамы в узеньком оконце
преобразит столыпинский вагон.
Они летят навстречу кутерьме
из боли, алкоголя и распутства,
где нету места материнским чувствам,
особенно когда они в тюрьме.
А после врут назло своей судьбе,
заемным счастьем озаряя лица,
что мама улетела за границу
и скоро заберет ее к себе.
В слепой любви не ведая границ,
они уже не могут жить иначе.
И наплевать, что воспиталка плачет
над этой стаей беззащитных птиц.
Мой дом
Как ясно было в нашем доме,
как воздух в нем был чист и свеж,
дрожа в распахнутом проеме
моих пленительных надежд.
Сияя мытыми полами,
он пяток беглые следы
скрывал с заботою о маме
в разводах высохшей воды.
О, подчинение уборке!
О, занавесок тихий дождь,
когда, распахивая створки,
где ткань, где воздух – не поймешь.
За ними лживый ветер странствий
зовет увидеть мир иной
в таком же вымытом пространстве,
как в доме за моей спиной.
Мой дом,
как будто снова верю
в твою направленность перил…
Что я сказал тогда за дверью?
О, лучше б я не говорил!
Чужой
Как далека постылая Итака,
что сниться по ночам не устает!
Тебя там знала каждая собака,
а здесь лишь невский ветер узнает.
Все снится эхо серых пустырей,
что несвобода порождает сырость,
и лица милых сердцу дикарей,
среди которых вырос.
Приснится окрик матери «ко мне»,
урок отца с тяжелыми руками.
Там вечный холод источали камни,
а здесь тепло исходит от камней.
Приснится труд натужный по росе
среди тщедушно выкопанных грядок,
а здесь старинный парковый порядок
и сыты все.
И вроде знаешь новые слова,
но, выучив названия сезонов,
на кладбищах чураешься газонов,
где аккуратно скошена трава.
Кому теперь молиться там, в углу,
где прошлый бог на гвоздике
пришпилен,
когда вокруг легко пронзают мглу
украшенные ангелами шпили.
Знать средство чудодейственное зря
потрачено для стираной рогожи,
поскольку душный запах дикаря
остался с кожей.
На родине голодные дожди
сменяют сушь на полевую слякоть,
а здесь всего лишь хочется заплакать –
тепло в груди.
А то, что влажен воздух – ничего!
Так напряги же всю свою отвагу –
коль суждено улечься в эту влагу,
пусть примет навсегда.
Как своего.
 18-07-2025
18-07-2025  (0) Просмотров: 171 Номер: 48(13883) Версия для печати
(0) Просмотров: 171 Номер: 48(13883) Версия для печати