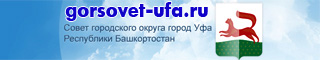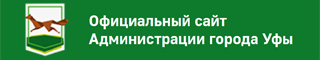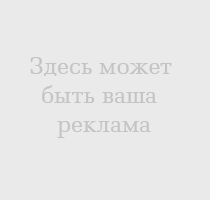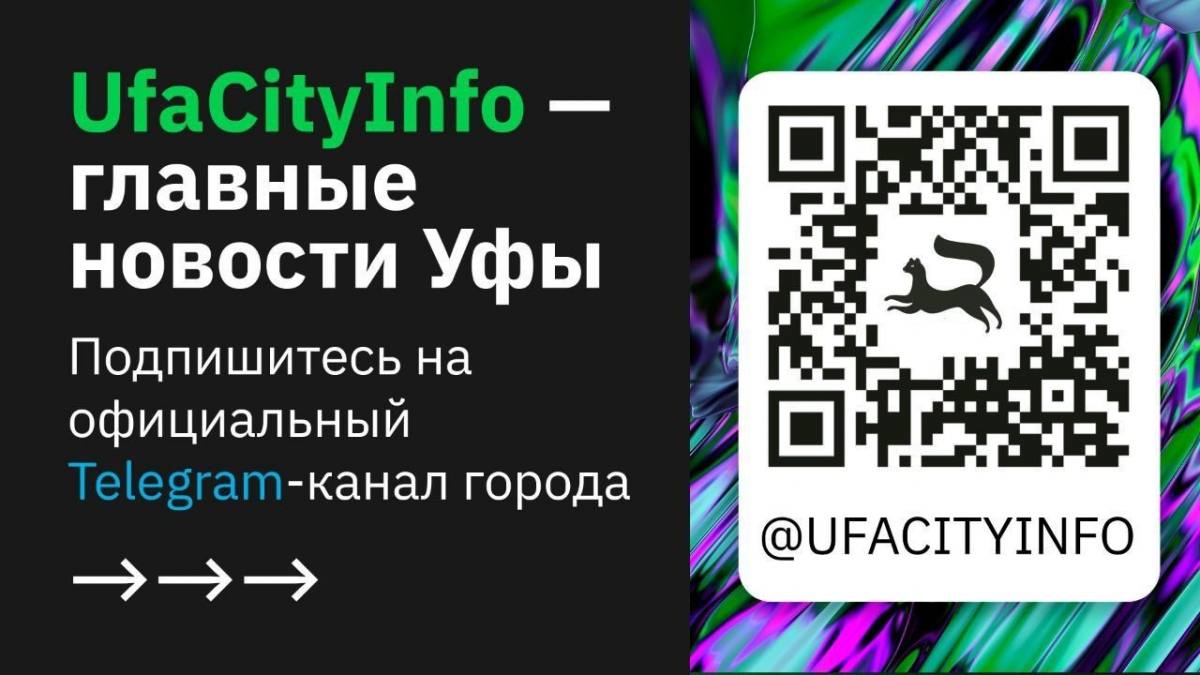Ирина БУСЫГИНА: «В театре не существует такого понятия, как возраст»
Как-то нежданно-негаданно лично для меня наступил тот период в Русском академическом театре, когда выпускники знаменитого самого первого курса незабвенного художественного руководителя ГАРДТ РБ Михаила Рабиновича вступили в пору зрелости. Один за другим они отмечают золотые юбилеи; они, которых мы по сию пору продолжаем называть молодежью флагмана русского искусства республики. И поэтому неслучайно появилась рубрика «Золотая молодежь», несущая в себе сразу несколько смыслов – и тот, что связан с понятием юбилей, и тот, что есть свидетельство их одаренности, работоспособности и индивидуальной (как у подлинных музыкантов) приспособленности к такому инструменту, как Театр. В свое время, набирая сей уникальный курс, Михаил Исакович со свойственной ему прозорливостью понимал, что этот «урожай» даст прекрасные плоды, и в итоге оказался прав.
Первой список молодых юбиляров открыла Альфия Кашбуллина, о которой, к сожалению, «Вечерка» не успела рассказать своим читателям по причине, не зависящей от газеты, все силы коей были направлены на освещение торжеств, касающихся 450-летия Уфы (надеемся, что время спустя мы вернемся к разговору об этой талантливой актрисе). Второй в списке «новорожденных» значится Ирина Бусыгина, чей юбилей прошел на сцене ГАРДТ РБ и был отмечен спектаклем «Иванов», который по чеховской пьесе поставил режиссер Григорий Лифанов. Ирина Владимировна, обаятельная, всегда открытая, излучающая добрую энергию, была в этот вечер прекрасна, и ее Зинаида Саввишна, быть может, впервые открылась мне во всех красках непростого, но столь необходимого в контексте постановки образа. Зал устроил виновнице торжества овацию, буквально осыпав ее цветами, а коллеги очень ярко и с невероятной любовью и теплом поздравили прямо на сцене. А сегодня мы предлагаем беседу с Ириной Владимировной, служение которой сцене Русского академического насчитывает уже тридцать лет. Но временные рамки либо не имеют влияния на выпускников этого курса, либо критерии возрастного ценза претерпели мощные изменения. И еще: да простит меня читатель, но я так давно знаю Ирину; равно как и всех ее однокурсников, что прямо по Пушкину: «Пустое вы сердечным ты» мы в разговоре заменили…
– Ира, привязанность к театру возникла у тебя с детства? Почему ты выбрала именно эту стезю. В семье были поклонники театрального искусства?
– Нет, мои мама и папа были инженерами. Они строили и, как я в детстве говорила, рисовали дома. Вообще, у нас очень большая семья, поскольку у бабушки было шестеро детей, и мы все поддерживаем очень тесные отношения.
…Артисткой я решила стать в три года. Это хорошо помнит мама и помню я сама. И точно помню, что до этого хотела стать клоуном. Рано научилась ходить, говорить, а в три года заявила – хочу быть артисткой. И помню по жизни – танцы, пение, выступления на всех утренниках, далее школьная самодеятельность, концерты в пионерском лагере – всегда со сцены читала стихи, в каких-то сценках принимала участие.
– Кто-то из киноактрис, видимо, произвел некогда на тебя сильное впечатление?
– Да, Людмила Марковна Гурченко, которую впервые я увидела в фильме «Мама». Вообще, самое сильное впечатление произвели на меня кроме Гурченко Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Нина Русланова…
…Не могу сказать, что семья меня поддерживала в моем желании. Мне твердили: получить необходимо серьезную профессию, приобрести специальность, которая позволит встать на ноги.
– А как ты узнала о том, что Михаил Рабинович набирает курс?
– Просто уже интересовалась этим вопросом, выяснила, что есть институт искусств, да и в Русский театр на спектакли ходила регулярно… Еще в здание на Гоголя, а затем и в нынешнее. Самым ярким впечатлением стал спектакль «Завтра была война». Очень хорошо помню работу в нем Татьяны Афанасьевой.
– А что было дальше, как убедила семью?
– Для домашних стало полной неожиданностью то, что я поступила, тем более – на бюджет. И мало-помалу отношение стало меняться. В общем, когда я училась – а мы просто дневали и ночевали в театре, – домашние вдруг поняли, что это действительно серьезно! А уж когда окончила институт и меня приняли в Русский театр, то я стала авторитетом для всей семьи.
…Когда мы пришли в наш театр, актеры, которые играли в спектаклях, были для нас небожителями. Это казалось каким-то волшебством, чем-то нереальным. Помню, как мы на втором курсе репетировали в «Касатке», а на третьем мы уже начали работать в ней на большой сцене. И вот однажды… а у нас был момент, когда мы не выходили к залу, нас не видно, мы просто за декорациями носим блюда с яствами из папье-маше, стол накрываем. Вдруг ко мне буквально подлетает Татьяна Владимировна Макрушина, которая играла главную роль, хватает меня за руку и фактически выдыхает: «Ира, что я сейчас говорю?!» Что со мной в этот момент было, не передать словами, буквально Дева Мария спустилась с небес и взяла меня за руку!.. Во-первых, ведущая актриса ко мне обратилась, во-вторых, оказывается, она знает мое имя! Я буквально выпалила ей текст, и она исчезла.
– А ты знала текст?
– Конечно! Мы все знали текст каждого героя. Помнили его до единой реплики. А Татьяну Владимировну, видимо, в тот момент перемкнуло, текст выпал из памяти, и она заметалась…
– Помнишь, что ты читала на вступительных?
– Басню Крылова «Ворона и лисица» и стихотворение Маршака «Дама сдавала в багаж…»
– Кто сидел в приемной комиссии?
– Сам Михаил Исакович, Ольга Борисовна Лопухова, Галина Ивановна Мидзяева, Тамара Петровна Абросимова, Римма Халиулловна Лощенкова…
– Это было в театре?
– Да. Вообще, это происходило очень необычно, у нас было три тура, и каждый тур длился три дня. Желающих было невероятно много, и если мне не изменяет память, то было пятнадцать человек на место…
– Сколько вас в итоге отобрали?
– Двадцать четыре.
– Вы, кажется, не все дошли до выпуска?
– У нас был курс актерско-режиссерский, поэтому не все стали актерами, но учились мы первые два года, постигая основы, вместе.
Общие предметы у нас были в институте, потом полчаса на переезд в театр. В то время это было очень сложно. Мы добирались до театра и продолжали заниматься уже здесь, причем буквально до ночи – каждый день.
– Мастерством с вами занимались…
– ...Ольга Борисовна Лопухова, Галина Ивановна Мидзяева и сам Михаил Исакович. Он был мастером нашего курса.
– Когда-нибудь речь шла о том, какое амплуа тебе предназначено?
– Нет. Но вообще, первые два года я не очень сильно понимала, что именно от меня хотят. …У меня очень странная психофизика – реакция на жизненные ситуации. Я ее называю ненормальной, ведь она не такая, как у большинства… Скажем, если у меня истерика – я не плачу, а хохочу, не могу остановиться. В общем, неадекват. Или, допустим, показывали отрывки «Я в предлагаемых обстоятельствах»… Я что-то делаю, а мне Мастер вдруг говорит: «Нет, ты так не можешь себя здесь вести!» Впадаю в ступор: но это же я! И знаю, что сама в такой ситуации именно так и сделала бы…
Короче, первые два года мне было совсем не просто. Тяжеловатенько я училась. Не понимала, что же от меня хотят и что на самом деле нужно.
– А когда переключение произошло?
– На третьем курсе. Мы тогда как раз вышли на большую сцену – в «Касатке».
…У меня на втором курсе было два отрывка. В «Ричарде Третьем» играла Леди Анну; а второй отрывок – «Братья Карамазовы», я играла Катерину Ивановну. И вот тогда в процессе работы над этими ролями я что-то начала понимать. Еще был такой ключевой момент, тоже на втором курсе, но в первом семестре – репетировали отрывки из «Утиной охоты» Вампилова – я играла жену главного героя, была в очках и постоянно пальцем поправляла мостик оправы на переносице. Очки были мне велики и сползали, в итоге и родился этот повторяющийся жест. И Галина Ивановна сказала: «Что это такое?! Это вызывает раздражение!..» А Михаил Исакович остановил ее и произнес: «Нет. Это характеристика образа. Это хорошо найденный жест».
И вот тогда я что-то вдруг стала понимать, включаться. Ведь такие замечания Мастера – есть вешки, на которые можно и нужно ориентироваться.
…У нас как таковых не было дипломных спектаклей в привычном понимании экзамена в контексте жизни вуза. У нас был спектакль «Ваша сестра и пленница» по пьесе Разумовской, изначально готовившийся для большой сцены. Была еще «Тень» Шварца, которую репетировал с нами Сергей Евлахишвили. Он, впрочем, не завершил работу над спектаклем, и до ума его уже доводил Михаил Исакович.
– В процессе репетиций «Вашей сестры и пленницы» было изначально понятно, что кто-то из вас играет, скажем, Марию Стюарт, кто-то леди Босуэл, кто-то шута, кто-то наследного принца… А остальные стали придворными дамами и кавалерами из королевской свиты… Изначально было ясно, что это зачтется вам в диплом?
– Нет, это уже потом стало понятно. Но я к тому времени сыграла Исмену в «Антигоне», которую в Русском театре ставил поляк Богдан Тоша, а Юля Наумкина – работала в «Касатке»…
– То есть вы уже выходили к зрителям в спектаклях?
– Да, и все, что мы играли на сцене к тому времени, нам в диплом зачли.
– Но были еще литературно-музыкальные композиции…
– Да, «Не покидай меня и не зови с собой» – экзамен по вокалу перерос в спектакль, который шел на Камерной сцене, и делала его с нами педагог по вокалу. А затем – «Сороковые-роковые», над этой постановкой работал с нами сам Михаил Исакович…
– Сколько человек из всех, кто окончил учебу, приняли в Русский театр?
– Двенадцать человек дошли до выпуска, и все двенадцать человек были приняты в театр. Только Сашу Желнина (обстоятельства так сложились) взяли без диплома. Все мы вошли в труппу сразу после окончания, в 1996-м. А потом иные уже мало-помалу стали отпочковываться. Теперь нас, выпускников этого курса, осталось в театре пятеро…
– Кто-то уходил, кто-то, уйдя, со временем вернулся…
– Дважды даже уходили и вернулись!.. Тридцать лет, как мы пришли в Русский академический театр. У всех нас в трудовой книжке значится, что мы пришли сюда в 1994 году. Это еще в студенчестве…
– Самая первая твоя большая роль на сцене?
– Уже упомянутая Исмена в «Антигоне», я еще была студенткой.
– Родные ходят в театр?
– Да. А самый преданный зритель – мама. Сейчас она, к сожалению, приходит нечасто, а раньше смотрела абсолютно все, не только с нашим участием, но и весь репертуар театра.
– Самая тяжелая роль?
– Есть два аспекта. Первая – тяжелая по рождению. Это была лаборатория, и мы делали эскиз по пьесе Пулинович «Земля Эльзы». Я играла дочь героини Ольгу. Вот этот образ мне очень тяжело дался в процессе его рождения. Я сопротивлялась так, что каждую ночь мне было физически плохо. Она из меня буквально вылезала, отторгалась. Я не могла ее принять. Это настолько не мой человек, не мой характер, не мои принципы в жизни…
– Но тут прямо по библейским канонам, Ира, тебе нужно было потерпеть…
– Да. И я отработала ее чисто по технике, абсолютно не впуская в себя эмоционально.
– Но вам, наверное, это не позволительно…
– Вообще, конечно, не желательно. Но с другой стороны – если ты владеешь техникой и никто не замечает, как это происходит, то почему бы и нет…
…А второй аспект связан с «Укрощением строптивой», в спектакле, который по пьесе Шекспира ставил режиссер Владимир Рубанов. Он очень сложно застраивал спектакль. Обычно у нас ставят, скажем так, «тело» самой пьесы. А режиссер точкой отсчета сделал историю Слая из пролога «Укрощения строптивой». И мы «рассказывали» историю Слая и богатого лорда – смятение власти и бред человека, страдающего алкоголизмом. Это и для нас-то было очень непросто, а зритель, мне иногда казалось, вообще ничего не понимает. И задача была поставлена чрезвычайно трудная: приходилось играть актрису, которая играет актрису, играющую актрису… И еще играть мои отношения с этой компанией, которая сидит и смотрит спектакль внутри спектакля. Мозг прямо закипал. Было очень трудно.
– А самая любимая роль?
– Они, как правило, все любимые…
– Ну, не все, судя по рассказу про «Землю Эльзы»… Впрочем, оставим эту тему. Скажи, какие ресурсы ты подключала, играя любимую мною роль Нюры в спектакле «Луна и листопад» по повести Мустая Карима?
– Жизненный опыт прежде всего. Свое отношение к понятию «мужское-женское», свою боль какую-то. У всех в судьбе существуют разочарования в отношениях… И конечно, это было счастье – репетировать у Михаила Исаковича, когда тебе внятно объясняют задачу, когда ты в любой момент можешь попросить совета, помощи!..
– Ира, вспоминая твою роль в спектакле «Счастье рядом» по рассказу Василия Шукшина, хочу спросить, та шаржированность созданного тобою образа вменялась тебе постановщиком Василием Сениным?
– Репетировать было тяжело, режиссер требовал того, что называется «на грани возможностей». Когда ты репетируешь в самом начале, ты идешь маленькими шажочками, нащупываешь. А тут прямо сразу выдавай результат конечный полностью, прямо от и до: каждую репетицию, каждую минуту, каждую секунду – расслабляться он не давал вообще, ни капельки. Вот это было тяжело. И главное – у него рождался миллион вариаций: сегодня это, завтра – то, послезавтра опять все меняем. Но потом, когда мы вышли на сцену и уже я поняла принцип, то, что хочет режиссер, стало проще.
– Но он сам от тебя требовал карикатурные краски? Он ведь не дал тебе ни одного шанса рассказать, что у этой женщины что-то хорошее было…
– Да!
– То есть это его видение?
– Безусловно. Вот на этом гротесковом состоянии он настаивал. Что и было тяжело. Жесты, пластику, эту форму он требовал выдавать сразу.
– А в спектакле «Иванов» по пьесе Чехова твоя Зинаида Саввишна кто по характеру?
– Вот тоже не могу сказать, что я довольна своей работой. До сих пор у меня висит один вопрос, а Михаил Исакович так нас воспитал, что ты готов выйти на сцену, когда все ответы даны. Для меня и по сию пору загадка, почему моя героиня в таком красивом платье постоянно ковыряется в земле, и когда у нее гости, и она хозяйка, к тому же жадная хозяйка. Единственное оправдание для меня – это ее мир, она в него уходит, прячется ото всех… И ей там хорошо… Да, она жадная. Но она работает, сколачивает состояние, поэтому они живут хорошо.
– Мне кажется, она выросла из человеческих качеств Наташи из чеховских «Трех сестер». То, что она постоянно, даже в дни приема гостей, отвлекается на свою рассаду, а это, как ты понимаешь, не цветы, а более существенные и вообще конкретные овощи – помидоры, скажем, огурцы, есть прямая характеристика ее характера, ее сквалыжности, мелочности, мещанского начала, патологической жадности. Ведь не от этого ли в конце концов стал спиваться Лебедев, ее супруг, кстати, блестящая работа Григория Николаева!
– Да, Гриша в этой роли очень хорош. А про то, о чем Вы мне сказали в связи с Зинаидой Саввишной, я подумаю.
– И обрати внимание на то, что в одной из последних сцен Сашенька, ее дочь, точно так же (а речь в это время идет об очень важных, сущностных для нее вещах!) подходит к грядкам и копается в рассаде, повторяя рисунок поведения (и характера, думаю) своей маменьки…
…А теперь ответь мне, пожалуйста, что такое тридцать лет работать в одном театре? Изначально придя сюда ребенком, чтобы увидеть спектакль, затем придя сюда уже студенткой, а потом через несколько лет актрисой…
– С одной стороны – это, безусловно, большое счастье! Вот Михаил Исакович не любил, когда мы говорили, что театр – это семья, а он нам как папа, не любил…
– Дом?
– Даже не дом. Это именно семья! И по-другому никак. То, что ты живешь в семье и тридцать лет все хорошо – это огромное счастье, с одной стороны.
С другой стороны, есть и минус, потому как мы пришли сюда детьми и к нам до сих пор еще отношение осталось как к тем несмысленышам, которые в 1994-м робко вошли в эти стены…
– Но не у всех… Потому что с той же самой Ольгой Борисовной, с Татьяной Владимировной ты выходишь на сцену в спектаклях. И это уже все равно другое. Ольга Борисовна очень хвалит тебя как партнера. Впрочем, понятно, что ты все равно будешь для них ребенком, которого они некогда водили за руку…
– В основном одни плюсы. Все хорошо. Нашему курсу, мне, моим однокурсникам повезло в том, что мы еще застали великих наших мэтров, они в годы, когда мы только пришли, еще работали, выходили на сцену. Только, конечно, многих уже нет, и вообще, от того театра, к которому я привыкла, осталось процентов 20, если не меньше… Очень бы хотелось, чтобы молодое поколение внимало нынешним мэтрам театра, у которых учились мы.
Пришли мы тридцать лет назад детьми, а сейчас, повзрослев, стали партнерами старшему поколению, выходя с ними на сцену в спектаклях… И вот это уважительное отношение, которое исходит от коллег взрослых к тебе, очень греет, вдохновляет!..
– Вы сами уже взрослые! Скажи – «от старших». У тебя двое почти взрослых детей! Сын сам уже на сцену выходит...
– Есть удивительное чудо в театре – у нас нет понятия возраста. Вот нет его! Человек может быть тебя старше на три десятка лет (или моложе), но ты общаешься с ним на равных. Мы забываем об этом, безусловно, знаем, кому сколько лет, но все время по многу раз спрашиваем друг у друга: «А сколько тебе?»
– В свое время я собирала анекдоты, связанные с Вашим театром, мне их много рассказывали – сам Михаил Исакович, Владимир Сергеевич Абросимов, его супруга Тамара Петровна, Владимир Васильевич Прибылов, Галина Ивановна Мидзяева, Владимир Геннадьевич Латыпов, Ольга Борисовна Лопухова…
Мы даже хотели с Михаилом Исаковичем создать небольшую книжечку: «Русский театр смеется», но не нашли денег на ее издание, и на этом все завершилось. Хочу понять, у вашего курса уже есть свои анекдоты, вы уже пишете (гипотетически, конечно) свою историю, внесли эту строку, абзац, страницу в летопись Русского академического?
– Наверное, да, пусть это очень смелое заявление, но я очень надеюсь, что какая-то часть истории ГАРДТ уже связана с нашим курсом… А что касается анекдотов, то смешных случаев, безусловно, было много. Стали ли они театральными анекдотами?.. Не уверена. Наши забавные ситуации и анекдоты, связанные с судьбой великих мастеров нашего театра – это, пожалуй, явления разного порядка. Помню, мы на курсе сами мечтали собрать некий свод афоризмов нашей наставницы Ольги Борисовны Лопуховой – она чрезвычайно остроумный человек! Но в итоге не собрали, лишь в памяти сохранив все ее меткие фразы, остроумные изречения и забавные словечки. Подлинных перлов было очень много.
– Самые важные для тебя люди в театре и самые важные для тебя люди вне его стен?
– В театре это, конечно, мои однокурсники. А если называть конкретное имя, да не обидятся остальные, – это Альфия Кашбуллина.
– Потому что в любом спектакле она существует по правде, да и говорит всегда то, что думает, не лукавя и не юля?
– Мне так хочется всегда добавить ей уверенности. Я не могу сказать, что я сама очень уверенный человек. Просто знаю: если я за что-то взялась, то доведу это до конца. Возможно, во мне это видимость уверенности, на самом деле меня постоянно одолевают сомнения. И тем не менее часть этой своей веры в конечный результат я хотела бы отдать ей. Потому что знаю: она очень талантливый человек.
– Но не слишком верит в себя?..
– Да, все время в себе сомневается. А на самом деле она по-настоящему одаренная личность. И в актерской профессии, и в своих человеческих качествах. Она абсолютно безотказна, тянет на себе невероятный груз ответственности, при этом никогда не жалуется. Она просто Богом поцелованный человек. Я ее очень люблю.
– Сразу же вернемся к вопросу сомнений… То есть когда ты получаешь новую роль, то изначально неуверена в себе?
– Мне кажется, это нормальное чувство. В первую очередь я, конечно, думаю: потяну или не потяну? И ведь каждая новая роль, каждый выход на сцену – это доказательство того, что ты имеешь право быть. Быть в театре. Быть именно на нашей сцене. От этого никуда не денешься, это такая профессия.
Другой вопрос, что не всегда тебе позволительно раздвинуть рамки узкого коридора, по которому ты все время идешь. Как-то мы с Михаилом Исаковичем разговаривали об актерских штампах. У кого-то их три, а у кого-то и сорок три… И естественно, первый выглядит убого, а у второго все-таки есть шанс стать большим артистом. И я тогда сказала Учителю: «Если исполнитель сидит все время на одном, как ему проявить себя? Если мне постоянно дают пирожок с капустой, как я сделаю из него пирожок с яблоками? Или если мне все время предлагают играть роль «бабы с трудоднями», и такое повторяется постоянно, да так, что поменяй этих персонажей местами, то в другом спектакле этого никто и не заметит, ничего не произойдет…» В большинстве таких случаев актер опирается на свой же штамп, а как бы хотелось чего-нибудь другого… Но у театра такая судьба. Рисковать потерей зрителя, а это сказывается на финансах (все ведь взаимосвязано), никто не хочет и не станет. Это понятно, но как бы хорошо иногда идти на риск…
– Что ты любишь вне театра?
– Караоке.
– ?!
– Очень люблю петь. У нас есть своя группа, мы как-то сами друг к другу прибились. Придешь раз-другой в клуб, смотришь – мелькает знакомое лицо, начинаешь здороваться, потом общаться, потом сдружились, и образовалась «поющая банда».
– А как давно ты поешь?
– Как говорить научилась, так и петь.
– В спектаклях ты пела?
– Да, конечно, и, пожалуй, даже довольно много.
– Кроме караоке что еще?
– Шить люблю. Очень. Вхожу в такой раж, что могу не спать сутками и шить-шить-шить.
– В своем ходишь, тобою сшитом?
– Да.
– Здорово! Я не знала… А о чем ты мечтаешь?
– О том, чтобы все у всех было благополучно. Чтобы маму не мучили хвори, чтобы у детей все складывалось, чтобы в театре все было хорошо, чтобы спектакли наши любил зритель!
…Вообще, с возрастом я сильно изменилась. Та, какой меня вспоминают однокурсники, и та, какой я сейчас стала – это два разных человека. Единственное, что осталось во мне неизменно – мой «позвоночник», то есть мои жизненные принципы. То, что я не принимала с младых ногтей, то не принимаю и сейчас.
– Скажешь?
– Честность. Открытость. Прямота. Предателей не терплю. Не люблю так называемые подводные течения и подковерные игры. Совершенно не умею врать. У меня язык просто не поворачивается. Иногда, чтобы не ранить человека, я могу сказать не всю правду, но врать просто не умею.
…Я громкая, шумная, говорю постоянно в голос, подчас кривляюсь, обезьянничаю – это, пожалуй, бывает от накала эмоций…
– Вернемся к людям очень важным для тебя… Разговор перескочил на другую тему, и ты не сказала про тех, кто особенно дорог тебе вне театра…
– Моя мама. Мария Александровна Балан. Она инженер-строитель, сорок семь лет проработала в институте «БашкирГражданПроект». В Уфе много зданий, к которым она имеет самое прямое отношение. Мама – моя опора, моя совесть, мой первый советчик. Она всегда очень много читала и научила меня любить и ценить книгу. Люблю ее всем сердцем и хочу, чтобы в ее жизни было все хо-ро-шо!
– А какое место в ряду дорогих тебе людей занимает Михаил Исакович?
– Это же вся жизнь! Это целая жизнь, которую он открыл для нас. К нему в любой ситуации можно было прийти за советом, даже если спектакль, в котором ты был занят, ставил другой режиссер. Михаил Исакович всегда, выслушав тебя и успокоив, предлагал какое-то решение. И это, как правило, был единственно верный ключ к твоей проблеме. Как нам его не хватает!.. А иногда мне кажется, что он неслышными шагами ходит по театру и по-доброму наблюдает за нами, как тогда, когда мы пришли к нему учиться. И он на всю жизнь остался нам Учителем!
Беседовала Илюзя КАПКАЕВА.
Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА.
Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА.
 11-02-2025
11-02-2025  (0) Просмотров: 127 Номер: 9(13844) Версия для печати
(0) Просмотров: 127 Номер: 9(13844) Версия для печати