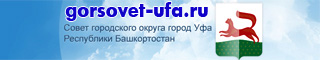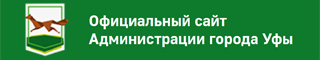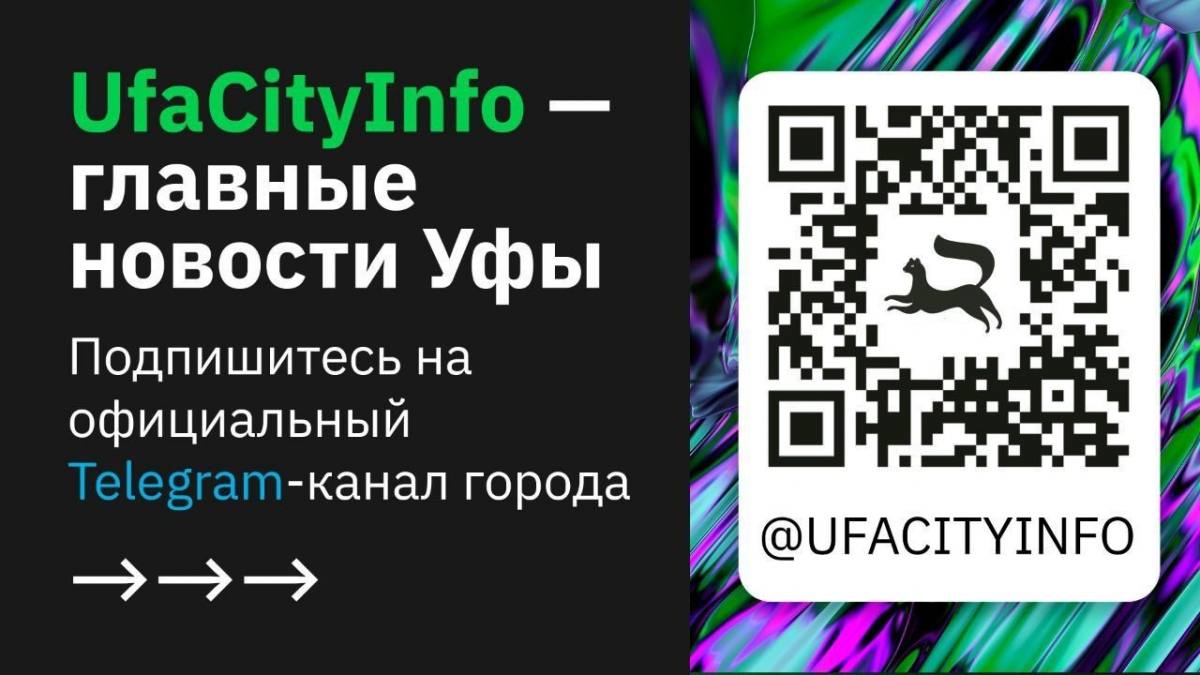Критики о Башкирском государственном театре оперы и балета
Искатели смыслов
В Башкирской опере огранили предъюбилейный семьдесят девятый сезон премьерами двух опер Жоржа Бизе - "Кармен" и "Искатели жемчуга". Постановки осуществили выпускники ГИТИСа - Дмитрий Белянушкин (мастерская профессора Александра Тителя) и Павел Сорокин (мастерская профессора Дмитрия Бертмана). Оба - в компании с Филиппом Разенковым (тоже гитисовцем, и тоже - воспитанником Бертмана), недавно назначенным главным режиссером театра в бывшем Аксаковском народном доме и дебютировавшим там "Орлеанской девой" Чайковского, - обозначили абрисом тенденции современного режиссерского процесса на музыкальной сцене.
Все трое - лауреаты Международного конкурса молодых режиссеров "Нано-опера" (Разенков и Сорокин - дважды, у Белянушкина - еще и Гран-при), все классически образованны и, судя по уфимским спектаклям, не претендуют на роли ниспровергателей классических оперных традиций, чем активно занимаются их предшественники и сверстники. Ни в "Орлеанской деве", ни в "Кармен", ни в "Искателях жемчуга" нет и намека на актуализацию: действие соответствует исторической прописке; костюмы стилизованы в рамках времени; пространство, детально "обжитое" в контексте сюжетных перипетий, чуждо минимализму и абстракциям.
В опере Чайковского у Разенкова появляется стадо барашков, "наивно" иллюстрирующее признание девы-пастушки "Досталось мне пасти иное стадо на пажитях убийственной войны", но финальный костер не трепещет старомодными кусками кумача, поддуваемыми вентиляторами, а превращается в величественный образ чудодейственного вознесения героини под пение сирен и ангелов. Смачные вяленые окорока за витринами севильской лавки и разбросанные по площади близ табачной фабрики рыжие апельсины нужны Белянушкину для того, чтобы погрузить персонажей "Кармен" в ту среду, из какой они вышли у Мериме, и - только. Большие бутафорские листья, подымающиеся из цейлонских заводей, необходимые Сорокину для истории про любовь друзей-соперников к жрице Брахмы, "несложно" выражают мир как трудно проходимый лабиринт человеческих страстей, одинаковый на все стороны света.
Все работают с художниками, знающими толк практически в любых сценографических направлениях - от классики - до постмодерна. Несмотря на разнящийся опыт (автор оформления к "Орлеанской" и "Искателям" - именитый Эрнст Гейдебрехт, чьи работы давно и по праву вписаны в мировую энциклопедию музыкального театра, а сценограф "Кармен" Александр Арефьев свою "оперную книгу" едва начал собирать), учитывающие современные технологии сцены художники не совершают марш-бросок ни в сторону так называемой режоперы, выворачивающей наизнанку сюжет и характеры, ни вспять - к оперному традиционализму, выдающему к радости ортодоксов классическую партитуру за псалтырь или адаптированный молитвослов.
Парадокс в том, что когда, скажем, на той же уфимской сцене Георгий Исаакян отправляет героев "Геракла" Генделя в типовую хрущевку 1980-х, Александр Титель в Екатеринбурге начинает действие "Бориса Годунова" возле пустых бочек из-под нефти или перекидывает обитателей "Кармен" из XIX столетия в послевоенные 50-е ХХ-го, когда Дмитрий Черняков на фестивале в Экс-ан-Провансе превращает трагедию цыганки и бригадира в ролевую игру "на выживание" для пациента психотерапевтической клиники, а Дмитрий Бертман внедряет в "феодальный" сюжет "Трубадура" Джузеппе Верди тему братоубийственной войны в современной Сирии, молодые парни Разенков, Белянушкин и Сорокин, набравшись от своих же учителей и их титулованных товарищей наглядных примеров, намеренно игнорируют тренды, сторонятся общепринятых в режиссуре провокаций и подробно, с мхатовской въедливостью анализируют оригинальные оперные тексты, занимаются с исполнителями отделкой ролей столь дотошно, будто складывают из осколков обжигающего льда слово "Вечность".
Или - не парадокс? Ведь при том, что мифологемные истории о страсти Кармен и Хозе, Иоанны и Лионеля, Лейлы, Зурги и Надира напоминают вышивки, на чьих обратных сторонах не найти никаких узелков, башкирские спектакли по классическим партитурам совсем не похожи на кисейные рукоделия: каждый сделан твердой мужской рукой, жестко проструктурирован и образно, без растекания мыслей по древу воплощен в границах, означенных первоисточниками. И почему тогда происходящее на сцене без нарушения "алфавитного" порядка не смотрится архаикой, не подернуто патиной и не заволакивает зрительный зал почти забытым ныне сладковатым запахом кулисной пыли и постижерного клея, надобных для того, чтобы придать персонажам псевдоисторические черты?
Режиссеры нового поколения, коим трудно реализовать свой взгляд на оперу как вид искусства в разномастных дебютах на различных сценах - таких, какие, обычно, не получают продолжения и сводятся к формату "одноразового" проекта, внутри театра-дома и в условиях репертуарной кампании выражаются куда как более отчетливо и улавливают друг за другом скрытые тенденции общетеатрального процесса нагляднее, чем вне оной. Руководство Башкирской оперы создает прецедент: стоически охраняя модель репертуарного театра со свойственной ей и проверенной временем поступательностью развития идей и их художественных воплощений, отдает подмостки во власть молодых толкователей канонических оперных смыслов, понимая при этом со всей очевидностью их неисчерпаемость. Кредит доверия тут безграничен, поскольку поправка на время, обеспеченная развитым интонационным слухом, обращает любой канон в живую театральную материю, не попирающую преходящей театральной моды, но и непременно собирающую в себе всевозможные художественные связи и текущей эпохи, и ее предварявших.
По сути, каждый из enfant terrible уфимской тройки сознательно или по наитию восстанавливает пропущенный отечественным музыкальным театром в ХХ веке участок неоклассики, образовавшей крепкие звенья в музыке, живописи, архитектуре, а ближе к теме - в балете, но почти не замеченной оперной режиссурой, занятой сначала борьбой с "костюмированным концертом", потом насаждением мхатовских копий, а нынче - постмодернистскими играми по перелицовке сюжетов и актуализации первоисточников.
Получившая академические площади и собранная в Башкирии почти наугад компания молодых постановщиков не боится прослыть "ретроградами" и подпасть под громы и молнии взращенных на межконтинентальных "проектах" критиков, поскольку безошибочно угадывает спрос подуставшей от экспериментов публики, хотя и не трафит ей с простодушием неофитов. А вот интонации меняет радикально, виртуозно соотносит общепринятый режиссерский словарь, коим, заметим, не манкируют и "актуальщики", с новым временем. И снова возникает парадокс: классические партитуры, не тронутые малярными кистями, изъятые из очереди на капитальный ремонт и очищенные от "позднейших" наслоений, обнаруживают, что их первоначальным смыслам несть числа и что в дополнительных, внедренных "извне", они по правде не так и нуждаются, как то принято считать в родном отечестве, ближнем и дальнем оперных зарубежьях.
Достопочтенный классицистский стиль обновляется в уфимских спектаклях свежими звучаниями, как некогда стиль имперского русского балета от Мариуса Петипа и его предшественников обновлялся Джорджем Баланчиным, отнюдь не презиравшим истоки, но в своей ностальгии по ним создавшим "отточенный до символа" хореографический образ музыки. Без натяжки, но с оговорками, "Орлеанская дева" у Разенкова, "Кармен" у Белянушкина и "Искатели жемчуга" у Сорокина и представляют собой новейшие - неоклассические - образы первоисточников, рожденные погружением в музыкальный материал (в содружестве с замечательными дирижерами Валерием Платоновым и Артемом Макаровым) и тщательной проработкой партий-ролей с исполнителями, у которых минимализм внешнего рисунка не довлеет эмоциональной выразительности и не обесцвечивает интонационной палитры вокала. О том, как это происходит в "Орлеанской деве" и "Кармен", можно составить представление по отзывам на страницах журнала (см., соответственно: Дмитрий Морозов. "Со слепыми упокой". "Музыкальная жизнь", № 11, 2015; Сергей Коробков. "Последний поцелуй". "Музыкальная жизнь", № 10, 2016), об "Искателях жемчуга" стоит сказать особо.
Мир ловцов жемчуга авторы спектакля ужесточают, хотя не лишают ни экзотической красоты, ни восточного ориентализма, ни временами накатывающей, как волны, мелодрамы. Традиционный любовный треугольник опирается основанием на обе мужские партии - лирическую Надира и драматическую Зурги, тогда как образ жрицы Лейлы, в которую влюблены оба друга, предельно высветляется, если не сказать - канонизируется. Любовь земная и любовь небесная сходятся здесь как твердь и небо, берег и океан, буря и штиль. Безостановочная мужская схватка и нешуточные страсти гасятся божественными песнопениями героини, но в ее обращениях к Брахме о защите отважных ныряльщиков молитвенный тон превращается в осанну любви как гармонии мира и человека. Быт символизируется в гипертрофированных образах: например - в гигантской раковине, переливающейся перламутром, будто из нее извлекли когда-то громадную жемчужину, похожую на Земной шар, или в свободно перемещающейся в пространстве неба-моря-земли мандорлы, откуда спускается на молельные камни острова Лейла и где она скрывается с Надиром после гибели Зурги, как в ковчеге Ноя.
Любовь и смерть, меняясь местами, обозначают границы земного мира, но за их пределами сливаются нераздельно. Тривиальная с виду история об измене и ревности выводится на бескрайние просторы притчи, где любовь - бессмертна, чувства - неподдельны, гармония - неизбывна. Быт остраняется до события, персонажи - до архетипов, сюжет теряет детали в растущих контурах мифа. Традиционно одетый и густо нагримированный хор из толпы обывателей превращается в античного комментатора: внешняя его экзотичность, казалось бы, никак не сообразуется с подчеркнуто искусственной графикой поз и движений (хореограф Алексей Ищук), но контраст не выглядит эклектично, зато образ получился собирательным.
В спектакле Павла Сорокина, Эрнста Гейдебрехта и Артема Макарова поразительным образом уживаются два театра: конкретно-бытовой и условный; исторически детализированный и абстрактный; психологически достоверный и поэтически обобщенный. Связь не новая и даже традиционная, но поданная с подчеркнутым обнажением самого приема и на точно выбранном материале, провоцирующем изначально на точечный пересказ сюжета-истории. А в итоге, конечно, оправляющая действие в неоклассический стиль, из какого возникает единый и величественный образ самой партитуры, страдающей очевидными слабостями либретто.
Не сказать, что режиссеру удается выдержать прием до конца и обеспечить безусловную целостность выразительных средств. Скажем, сопровождение романса "Je crois entendre encore" хореографическим дуэтом а la "Баядерка", по пластике словно срисованным с танца Золотого божка авторства Николая Зубковского, выглядит откровенной иллюстрацией популярной в библиотеке рингтонов мелодии, хотя, возможно, и рождалось с ироническим подтекстом. А образ Нурабада, незримо управляющего племенем ловцов и провоцирующего их на расправу с нарушившей обет Лейлой, откровенно плакатен и будто заимствован из оперных преданий старины глубокой. Зато "отанцованные" мизансцены самой расправы, как и финал, в "картинке" которого сочетаются статичное изображение убитого по наказу Нурабада Зурги и движение мандорлы-пироги, уносящей по волнам Вселенной соединившихся Лейлу и Надира, - это уже ювелирная огранка от художника, точно понимающего, в каком стиле и в какое время он работает.
Поиски смыслов - видно из двух премьерных показов - отнюдь не ограничиваются для Башкирской оперы одной режиссурой, а напрямую зависят от труппы, какая способна обеспечить два, а то и три состава исполнителей, что по нынешним временам для активно действующих репертуарных театров почти редкость. Тройка одних голосов превращает "искателей" в притчу, других - в мелодраму, и разница прочтений только подчеркивает сложность нащупывания режиссерского стиля. Эльвира Фатыхова, обладающая спинтовым сопрано с одинаково чувственными тремя регистрами, находит "золотое сечение" роли в безшовном соединении двух ипостасей: ее Лейла - и земная девушка, ранимая соблазнами нарастающего чувства к Надиру, и - манящий идеал красоты, явленный смертным ненадолго и с тем, чтобы восстановить веру через борьбу и смирение живых страстей. Колоратуре второй исполнительницы Алины Латыповой, почти безупречно проводящей партию, подобного объема недостает - ни в красках голоса, ни в ощущениях природы постановки: мгновенные и по сути точные актерские оценки, как ни странно, разрушают символическое поле вокруг ее героини.
То же - в мужских партиях. Драматический тенор Ильгама Валиева с легкостью одолевает "голубую лирику" партии Надира, тогда как Алим Каюмов с преобладающими характерными нотациями в голосе укрывает своего персонажа вдали от бурь и смертельных схваток с противостоящим миром. На высокий и обертонально насыщенный бас Артура Каипкулова на удивление свободно ложится сложная по строчке партия Зурги, а строгий минималистский рисунок, освоенный артистом, неотделим от внутреннего, эмоционально проявленного через пластику вокальной речи. Сложнее Яну Лейше, чей лирический баритон для партитуры явно не предназначен, хотя роль выходит отнюдь не камерной и совсем не мелодраматичной и попадает в искомый авторами стиль без скидок на иную, нежели нужно, природу вокала.
Уфимские "Искатели" - важно для выводов - спектакль, соотносимый не просто с репертуарной политикой театра-дома, но в первую очередь с его внутренними художественными поисками и направлениями. А то, как дом устроен и обжит, зависит от его обитателей: от старожилов и от молодых. От хозяев и от тех, для кого в доме открывают двери.
Сергей КОРОБКОВ,
журнал "Музыкальная жизнь", № 7-8, 2017 год, Москва.
Фото Андрея КОРОТНЕВА.
журнал "Музыкальная жизнь", № 7-8, 2017 год, Москва.
Фото Андрея КОРОТНЕВА.
ОБ АВТОРЕ
Сергей Николаевич Коробков (Москва) - театральный критик. Кандидат искусствоведения. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ, лауреат премии имени С.П.Дягилева. Читает курс мирового театра в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Член Правления Фонда Галины Улановой, а также экспертных советов и жюри различных фестивалей и конкурсов.
 22-09-2017
22-09-2017  (0) Просмотров: 1 478 Номер: 76(13152) Версия для печати
(0) Просмотров: 1 478 Номер: 76(13152) Версия для печати