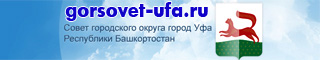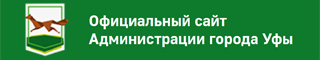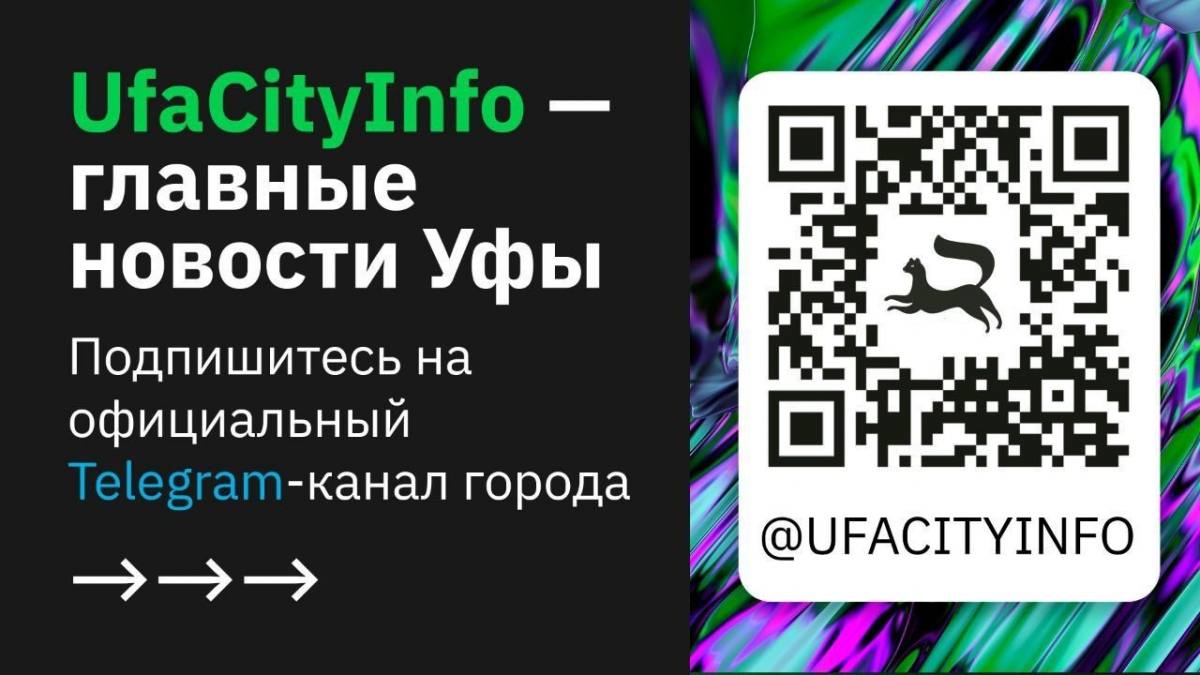Наталия САННИКОВА: «На белом ярче проступает жизнь»
Над полем памяти кружится снег
и птица
летит, касаясь прошлого крылом,
соединяя наживую швом
волнистые туманные края,
текущие неявные границы,
где я
вот только что несла ведро
воды подземной,
ты мне вслед смотрел, и
снегирями вспыхивала дробь
из брошенной в углу двустволки стрелок,
мы пили чай с синичьим молоком,
я чайной ложкой извлекала пули
вишнёвых косточек,
засевших глубоко
в далёком, не смолкающем июле,
теперь ты лёгкой машешь мне рукой
оттуда, где и альфа, и омега,
ныряет птица вверх и в молоко,
там высоко –
озимые под снегом.
***
серый воздух зимы сквозь каналы-сплетения вен
чёрный пёс петербург завывает в моей голове
чёрный шар на цепи словно маятник бьет по вискам
ДДТ ддт в этом звуке любовь и тоска
накрывает эфир разлетаются слов воробьи
и уфа говорит говорит о любви о любви
и дождем ледяным накрывает любя с головой
здравствуй милый ура ты вернулся вернулся домой
где-то странный чувак открывает загадочный кран
чтобы песня про дождь прозвучала сегодня иначе
музыкант говоришь значит снова вставай и играй
это вечная периферия смеётся и плачет
***
Маме
Всё сказано, но важно не молчать,
чтоб не забыть звук человечьей речи.
Слова перебирая, словно гречку,
готовишь завтрак, наливаешь чай.
Ты говоришь: был дождь, теперь буран,
опять навалит снега выше крыши.
Ты говоришь: идём обедать, слышишь?
Под вечер скажешь: ужинать пора.
Ты говоришь: ну что молчишь, старик.
И как ребёнка гладишь домочадца.
И он в ответ не может отмолчаться:
заводит песнь и сказки говорит.
Первый день зимы
в парке лесоводов
Над зоной пикников – шашлычный дым.
Парк лесоводов далеко заводит.
Повсюду жизни быстрые следы,
растерянные в некотором роде.
Родители ведут детей глазеть
на заключённых местного зверинца:
– Смотри, какой нахохленный медведь!
По кругу ходит, как дурак, и злится.
Идём по кругу все, как дураки.
Мы с палками, а кое-кто на лыжах.
Декабрь ведёт уныния полки.
Зима все ближе.
На матери верхом сидит пострел.
Она ему: Смотри-ка! Как красиво!
А он в ответ:
– Я не хочу смотреть!
– Давай-ка сам пойдёшь!
– Нет, ты неси, мам!
Бредет насквозь дремучий лесовед,
и, кажется, лицо его – под цвет
нездешней кипарисовой доски,
лишенной краски.
Мелькнул в кустах знакомец старый – хаски.
Здесь тропы проторенные узки.
Стоят девчонки, гаджет теребят
и смотрят вверх,
там белка, словно птица,
сидит на тонкой ветке, смотрит вниз.
И я смотрю – процессор мой завис.
Зачем все в памяти: чужие мысли, лица,
весь юркий парк из тысяч терабайт?
Ещё один знакомец пробежал –
один в один киношный Пьер Ришар –
и подмигнул вдруг весело:
- hәйбәт!
***
Вместо январских морозов пришел буран,
будто бы март и безумный акман-токман.
Люди выходят в белую кутерьму
и пропадают бесследно по одному.
Братья несчастны в ссоре, а мира нет.
Не разлучаться – невыполним завет.
Каждый бредёт на ощупь, и глух, и слеп.
В каждом клокочет степь.
Снежное море, встающее на дыбы.
Где-то должно быть небо поверх воды.
Здесь же, на дне, кого ни задень плечом, –
я, говорит, не сторож, я ни при чем.
Я, говорит, не нянька, да, мир суров,
брат, вероятно, спит, тот ещё сурок.
И сам засыпает, по-братски сугроб обняв,
вмиг на крылатого вскакивает коня.
Буран превратился в дождь – истекла зима?
Или конец времён – ахыры заман?
Зябнущих одиночек всплыла толпа.
Где-то должно быть небо, неси, тулпар.
***
приснилось вдруг послушному до колик
что он восстал и возопил доколе
и в бессознательном возникло слово бунт
затем послав прозак и фенибут
к едрене фене
взял словарь сновидец
раба в себе всем сердцем ненавидя
искал живой пророческий глагол
но лексикон его был чёрств и гол
как дуб в средневековые морозы
кошмарным языком анабиоза
он шевелил и грохотала жесть
таким глаголом можно заморозить
но не зажечь
бездарно сам промёрз до междометий
и не заметил
что давно прикован
к дождю стоящему по кругу частоколом
к неверию что кончится добром
восстание рабов
к подспудной мысли что бунт и беспощаден
и бессмыслен и бестолков
он спал превозмогая волны дрожи
и сослагал
когда бы искра божья
***
Плыву, соленый и тяжелый от слез,
почти не высовываясь из воды.
Виктор Шкловский.
«ZOO, или Письма не о любви»
Я пишу тебе письма, ты помнишь, не о любви.
Что у нас?
Пробиваются сквозь асфальт пешеходы под цвет озимых.
И не так страшен черт, говорят, как его ковид.
Страх берёт города, аптеки и магазины.
Наступает весна, звонко падает ниже нуля,
а в глазах её – Tradescantia Euridice.
Под окном зеленеет «сакура-сtскtлtр».
Там цветочница томик Басё маринует в гвоздиках.
У неё, очевидно, вяло идут дела.
Хризантемы ещё бодрятся, скрипят герберы.
Говорят, кое-кто из людей умудряется выжить
офлайн.
Существуют примеры.
В местном zoo не спит медведь и поёт петух.
Правда, плохо поёт – слух и голос легко потерять
в неволе.
Уповаем на чудо, иммунитет и спасительную
красоту.
Протираем клавиши алкоголем.
Я прошу, напиши мне на чувственном белом
листе
о подснежниках в парке, о чём-то ещё между
строчек.
Я боюсь, в суете антител
позабуду твой почерк.
***
Спокойствие, спокойствие, напой:
«полынь пройдёт, начнутся цикламены».
Покой течёт неспешною рекой
в моей крови, но скоро – перемены.
Почти исчерпан сказочный рецепт.
В конце иссякшей осени концерт
грядёт для скрипки и седой волынки.
На подоконнике в земле лежит клубком
цветочный клубень с золотым глазком.
Подмигивает мне, как половинке.
Ещё часы песок на рану льют,
ещё осталось несколько пилюль,
а дальше – ломка, яркий свет и звук,
и, кажется, наверх – всплывать – зовут.
Но зябко, страшно.
Лес на пути – из щупалец теней
(не все назвал по имени Линней).
Я за тобой тянусь, цветок отважный.
Пока серотониновый дурман
не выветрился счастьем без ума,
настань, мой цикламен, раскройся песней,
я подпою тебе: пройдёт полынь.
Отвянь, тоска зелёная, отхлынь,
ты неуместна.
***
1
Счастливые мгновения на фото:
башкирский заповедник, тёплый юг.
Мед, запечатанный в июльских сотах.
И речь знакомая, певучая:
– hин кем?
– Сейчас спою!
(я тот ещё акын)
2
Вот переплёт иной.
Тут за стеклом, пожалуй, север.
Ветер, вечер, ветки.
Под глазом фонаря плывёт соседка,
неявный взгляд мой чувствуя спиной,
тревожный холодок по позвонкам,
сквозняк из форточки,
в пространство приоткрытой.
Француженка Жужу с бульдожьей прытью
натягивает тонкий поводок
(из ближних и живых по этажу
по имени я знаю только Жу,
она при встрече хрюкает потешно).
Они с хозяйкой чем-то схожи внешне:
в глазах – нечеловеческая грусть.
3
Наш дом тяжёл, уныл, как сухогруз,
забытая во льдах многоэтажка.
Сосед невидимый в ответ на каждый чих
по острым рёбрам батарей стучит.
Он барабашка.
4
А у соседей сверху – пик любви
и мартовское пение дуэтом.
Наш дом, почти бесчувственный на вид,
скрипит суставами и окнами не спит –
местами он предрасположен к свету.
Местами – щебень, дерево, песок.
Наш управдом давно уехал в Рио.
5
Вот тополь пролетел наискосок,
взвалив заряд на ледяной загривок.
И тоже светится по-своему, горит,
хоть, говорят, пока что не волшебник.
6
Смотрю на сына: мучает учебник,
но, к счастью, не зубрит.
7
Мой биоритм, похоже, сбился и поплыл.
Кто я? (неважно, надо мыть посуду)
Акынствую с печалью на челе,
пью с мёдом чай, завидую пчеле,
поскольку с точки зрения пчелы –
цветы повсюду
***
Белое солнце над городом У
тусклым касаньем щекочет траву,
спящую в скомканной почве.
Скоро сойдёт как лишай чёрный снег.
Истосковался во тьме человек
по лопухам и цветочкам.
Помнится школьный весёлый урок,
добрый ботаник краснел и не мог
быть показательно строже.
Он, заикаясь, устройство цветка
нам объяснял: вот губа лепестка,
пестик, пыльца, цветоложе.
В мае он вёл нас копать и сажать.
Свежим рубцом пролегала межа,
шита стежками косыми.
Мы хохотали, ботаник был тих.
Трудно ему, говорили, найти
новую маму для сына.
В памяти стерлось полжизни с тех пор,
но по весне прорастает укор,
как под дождем – семядоля.
Эмбриональные листья тоски.
Бледные буквы зеленой доски.
Дальний звонок в коридоре.
***
страшно выйти и страшно остаться
в лесопарк по-шпионски нырнув
рассекаем волну самокатцев
скейтбордистов обходим волну
жить и чувствовать в мае неймется
безрассудно катить с ветерком
в юной зелени плещется моцарт
фонари зажигает щелчком
и тебе ля мажором засветит
застаккатит дождем до ре ми
вновь листва робко дышит о фете
вновь о тютчеве небо гремит
будь готов говорит будь причастен
пой взахлёб под эфирной струей
а какого ещё тебе счастья
карантинное горе мое
***
Памяти бабушки Пелагеи
Я помню вечера под потолком.
Свет лампочки, свечение икон.
Ты говорила с Богом, не спеша, на языке неведомом, красивом,
и тишины расцвечивалась шаль узором красным, золотым и синим.
Баюкало дремотное тепло,
шершавое под перьевой подушкой,
и слово хлеб среди неясных слов
мне улыбалось солнечной горбушкой.
Я в сотый раз про вмятину в стене:
– Ну расскажи...
– Ох, слушай, коль охота...
Дед Фёдор был рабочим на войне.
Трудлагерь, голод, лебеда, чахотка...
От слов колючих – тени по углам.
Глядит во тьму встревоженная кошка.
Cвет съёжился, как будто бы ослаб.
Ты плечи укрываешь мне шалешкой.
– Про вмятину, бабуля, не забудь.
И ты смеёшься ласково, беззубо.
Затёрла глиной, говоришь, избу,
ещё сырой, видать, был этот угол.
Дед влез на печь-то (ростом – каланча)
и голой пяткой вляпался в замазку.
Спи, егоза, умаялася, чать.
А мне рассказ твой – лучше всякой сказки.
Мне снится дед, идущий босиком,
в каких-то вспышках, золотых и синих.
Не разглядеть лица – он далеко.
И белые следы на красной глине.
***
однажды ты сказал: «там боли нет»
твой голос в голове моей звучал,
я видела тебя сквозь пелену,
но не могла ни слова прокричать,
померкло все, смешалось, выпал снег
помехами на радиоволну,
и выпал свет на веки как печать
я часто вспоминаю этот сон,
открыв глаза в обычной темноте,
рассеянной в периметре окна,
нет боли это значит – нет потерь,
а тут – война, холодная волна,
и снег стеной, а выпадет – песок,
и свет стеной – за каждого из нас
***
На белом ярче проступает жизнь.
Отчётливей условные границы.
Как будто что-то в воздухе кружит.
Всё тайное готово проявиться.
Пернатые слетаются в слова.
Пытаюсь прочитать, но – ни бельмеса.
Дырявая кружится голова.
Все буквы рассыпаются над лесом.
Свет приглушён, рассеян и размыт.
Вступает музыка, пока она беззвучна.
Ещё аккорд и – прояснится смысл.
Ещё февраль и – разойдутся тучи.
Хотя, пожалуй, вряд ли, если март –
за февралём, но всё теперь не точно.
Как будто что-то светит сквозь туман.
И между строчек.
Из цикла «Рифейские песни»
***
Лучше жить в провинции у моря...
Кто бы спорил.
А когда провинция без моря,
это хуже, но куда деваться.
Ходишь как дурак по лесостепи
в поиске моральной компенсации,
и хотя пейзаж великолепен
от и до, и выше окоёма,
нестерпимо тянет к водоёму.
Здесь когда-то тоже море пело,
в краевом прогибе, как в кастрюле,
буднично расплескивало пену
и наваристый бульон горячий.
От Уральских гор до Аппалачей
в пермском знойном палеоиюле
плиты литосферные дрожали,
у Пангеи отходили воды,
намечались контуры иные.
Пылью оседал железный воздух,
Жадно раскрывались чьи-то жабры,
чей-то глаз глядел из глубины и
наступал расцвет фанерозоя.
Море, цианея, бесподобной
Наливалось протобирюзою.
Время явной жизни наступало.
Вдалеке качались протопальмы,
щупальцами ввинчивались в камни,
и безвидным докембрийским дном был
дом кораллов, ставший нашим домом.
Море бушевало с жару-пылу
первыми свободными стихами.
Море было здесь. Но отступило,
обнажив печальные шиханы.
Приезжай взглянуть на Тора-тау
и послушать сердце Йорак-тау,
в нем ещё слышны прибоя песни,
мощные глубокие октавы...
Нет, тебе Анталья интересней.
***
Море не волнуется ни о чём.
Морю снятся песни уральских пчёл.
А поверх глубин его нанесло
медоносный слой.
В поисках сладчайших из берегов
человек проходит, один, другой.
Встанет и замрёт посреди степи:
слушает, как прошлое море спит.
Человек, волнуясь о том, о сем,
смотрит, как пчела божий дар несёт.
У пчелы в глазах – ультрафиолет
россыпью пыльцы – трудовой умвельт.
Человек, ужаленный красотой,
падает в волнующий травостой,
и плывёт, раскинувшись, на спине,
с полевым вьюнком на одной волне
***
Сегодня дождь – неистовый как Гленн Гульд,
у которого Бах с пелёнок сидит в печёнках.
В маленькой комнате на липовом берегу
мечтаю о море, ведь надо мечтать о чем-то.
Серебряную прохладу прикладываю к виску.
Всех бесконечно жаль, и себя, конечно.
В раме окна золотой расцветает куст.
Опус в миноре дробит темноту кромешную.
Древняя мощь клокочет, слова молитв
кажутся единственной безупречной твердью.
Баха сменяет утешительный Ференц Лист.
Музыка входит в распахнутые предсердия
вместе с грозой, озоном, мёдом июльских лип.
Падшие облака ржавеют под яблонями в корытах.
Текущего кайнозоя оцинкованный звонкий срез
блестит.
В бессловесной рифейской тьме
распускаются вещие аммониты.
Помнишь, в этих краях было море.
Кажется, оно ещё здесь.
***
– Ты потерялась, милая, где твой дом?
– Первый – зарос крапивой и лебедой.
Другой приютил на время, и снова – в путь.
В шестом было тесно – ни выдохнуть, ни вдохнуть –
давили чужие стены и потолок.
Однажды был замок, но быстро ушёл в песок.
Съёмный уют недёшев – берет теплом.
Много тепла рассеялось, утекло
в щели сто лет не мытых оконных рам.
Едва отогреешься – дальше идти пора.
Счёт потерялся старый, теперь в уме –
новая эра, фикус да цикламен.
А из окна – рассвет. До чего ж красив!
Где это? Кажется, ты у меня спросил.
Это – в кредит, а стало быть, где-то здесь.
Небо в окне, заснеженный темный лес.
Спится взаймы тревожно, когда – года.
Снится всю ночь крапива и лебеда.
Только под утро – море, и у воды –
блудных детей петляющие следы.
***
ты говоришь, что это счастье – жить
в чудесном старом городе у моря.
и мне приснилось дерево инжир,
лоза на символическом заборе.
лист фиговый укрыл нас от зимы,
сместилось время, выгнулось синкопой,
волною накрывая, чтобы копоть
печали смыть.
Пригублено глубокое вино,
пьянит простор и сладостная праздность.
соседский умный дог диез-минор –
свой с первой фразы –
веселый полиглот, надёжный гид
по улочкам извилистым и узким,
читает вслух широкие шаги
незваных русских.
Слабейшей доле выпадает шанс
продлить внезапное смещение акцентов,
но будто бег во сне – весь этот джаз,
и в центре бытия – немая сцена:
с мороза мама занесла бельё.
где был инжир – звенит опавший клён
Об авторе
Наталия Николаевна Санникова родилась в деревне Васильевка Ермекеевского района Башкортостана. В 1998 году окончила отделение журналистики Башкирского государственного университета. Автор и ведущая программ «Переплет», «Активный словарь» и других на «Радио России – Башкортостан».
Дважды финалист международного фестиваля «Живое слово» (Большое Болдино), дипломант всероссийского конкурса «Родная речь» (Ясная Поляна), лауреат международного конкурса «Кубок мира по русской поэзии – 2014» (Рига), обладатель Приза симпатий «Рижского альманаха» и Литературного интернет-журнала «Русский переплёт».
 22-12-2020
22-12-2020  (0) Просмотров: 1 034 Номер: 89(13468) Версия для печати
(0) Просмотров: 1 034 Номер: 89(13468) Версия для печати