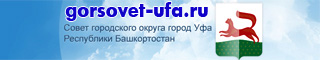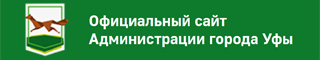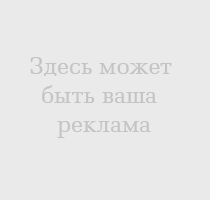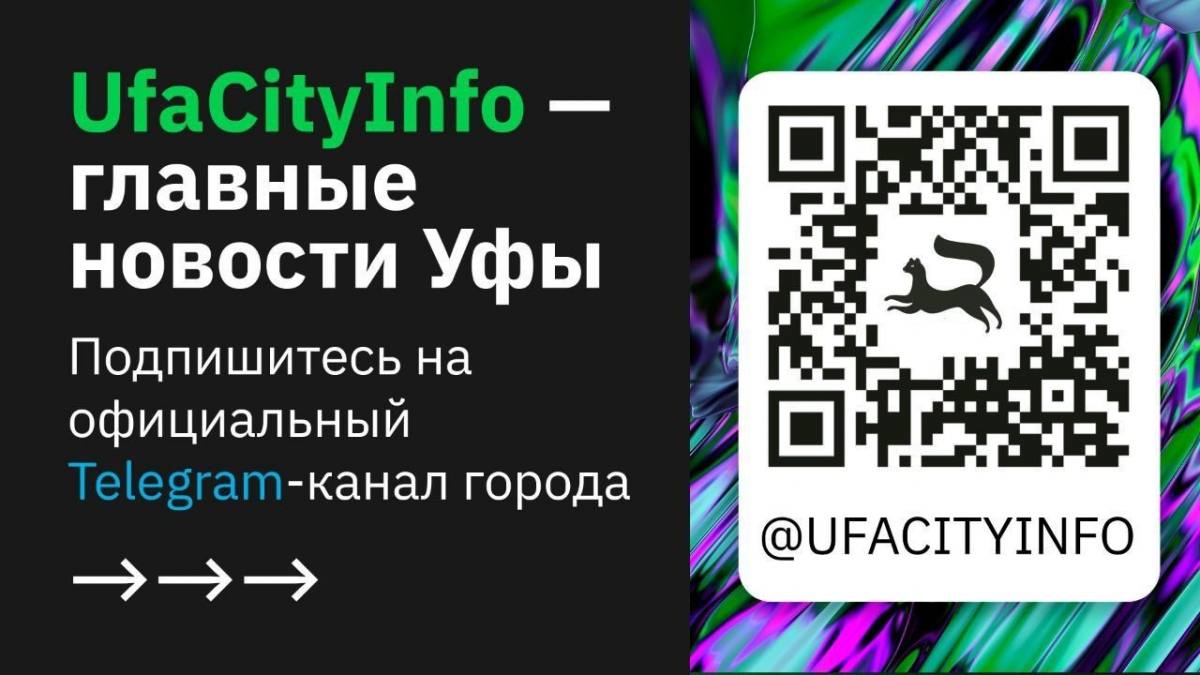Рассвет на рельсах
Текст, который я хочу предложить Вам, уважаемый читатель, имеет весьма опосредованное отношение к знаменитому стихотворению Цветаевой, ставшему символом неизбывной тоски по Родине, по России, написанному Мариной Ивановной осенью 1922 года в Чехии. Впрочем, точки пересечения у цветаевских строк с новой сценической версией чеховского «Дяди Вани» в интерпретации режиссера Степана Пектеева, безусловно, имеют быть, иначе я бы не вспоминала произведение поэта со столь трагической судьбой, тоскующего по покинутой России. России миража. России идеальной, хранимой в сердце ее истинного гражданина и далекой от тех реалий, которые так мучали Марину Ивановну – «без низости, без лжи»…
И возникает образ железной дороги. Но шпалы и рельсы в сознании Цветаевой не есть символ организованности и порядка, нет, в ее стихотворении они символ жизненного пути, скорее даже изгнания той, кто вынужден был покинуть Родину… В спектакле Степана Пектеева, премьера которого недавно прошла на сцене Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, спустя долгие годы вернув на подмостки флагмана национального искусства республики эту чеховскую пьесу (в далекие 50-е уникальный для любого актера материал был принят к постановке великой Шаурой Мусовной Муртазиной), тоже возникает образ железной дороги… Но прежде чем я обнародую одну-две мысли, которые пришли мне в голову в процессе погружения в спектакль 2025 года, увидевший свет в период торжеств в честь 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, не могу не сказать того, что за этими беглыми заметками последует статья, настоящее исследование высоко ценимого нашей газетой театрального критика, доктора философских наук, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, профессора Галины Яковлевны Вербицкой. Те, кто пристально следит за творческой жизнью БГАТД имени Мажита Гафури, не могли не видеть в социальных сетях театра своеобразного пролога к премьере «Дяди Вани» – цикла лекций Галины Яковлевны, посвященных судьбе Чехова и его драматургии. И естественно, я не могла не обратиться к профессору Вербицкой, уже познакомившейся с новой работой «академиков», с вопросом: откликнется ли Галина Яковлевна на эту постановку на страницах «Вечерней Уфы»? Услышав утвердительный ответ, а сие бывает совсем не часто, читатель, я предупредила уважаемого мною автора о том, что к Международному дню театра позволю себе бегло изложить какие-то свои первые впечатления от премьерного спектакля, и получила одобрение. Читатель должен понимать, что весь этот церемониал зиждется на том, что профессор Вербицкая – носитель фундаментальных знаний, женщин рыцарями называть не принято, так что скажу, как при английском дворе – кавалерствующая дама науки и тончайший знаток творчества Антона Павловича Чехова, и ее мнение для меня всегда является основополагающим, своеобразным ориентиром в том, что автор сих строк, возможно, интуитивно чувствует, но не может выразить словом столь ясно и мудро, как это дано только критику Вербицкой. Я же просто журналист, пишущий о театре, быть может, чаще других, и полагаюсь лишь на чутье и опыт работы с подобными событиями…
Но еще нужно оговорить то, что мне, пока Галина Яковлевна работает над своей статьей, важно было отметить в газете именно «Дядю Ваню» наших академиков. Почему? Да потому, что на сегодня это наиболее обсуждаемый спектакль, а мнения о нем полярны; и возможно, во всяком случае для меня, он – самое неожиданное и яркое высказывание о российском национальном характере и вечной маете русской души…
…Итак, мы сидим на сцене, развернутые лицом к залу, который сокрыт от нас, а замечательные актеры, занятые в спектакле, работают в шаге от многочисленных зрителей, а и сдача, и два премьерных показа «Дяди Вани» прошли при полных аншлагах. Мы попадаем в уникальное пространство, очень точно и завораживающе выстроенное всей творческой командой – режиссером Степаном Пектеевым, художником Катериной Андреевой и композитором Евгением Роднянским. Для меня открывшееся моему взору решение кажется последней станцией в жизни всех героев спектакля. Это какой-то огромный зал ожидания, быть может, массив вокзала, к которому ведут рельсы, напоминающие, несмотря на звуки приближающихся составов, некую узкоколейку, каковая принимает персонажей по одному и ведет их к конечной точке земного пути. Воспринимая звуковую «палитру», созданную таким мастером саунда, как композитор Роднянский, ориентирующийся на голоса земли и звуки, созданные самой природой, эта Фата-моргана, для меня – некое оптическое явление, почти мираж, напомнила мне сцену из третьей части легендарной трилогии родственного по крови режиссерского дуэта Вачовски «Матрица». Я сразу вспомнила сцену, в которой заброшенный Мировингеном Избранный, Нео, на станцию со странным названием Mobil Ave, понимает, что он заперт и выхода просто нет. Если мы догадаемся о том, что речь идет об анаграмме – стоит лишь переставить в слове Mobil буквы местами, то возникает название Limbo, сиречь пространство между Раем и Адом. Вот и герои данной сценической версии «Дяди Вани» в момент нашего знакомства с нами пришли к итоговой, финальной части своего земного бытия. И та бездна, каковая время от времени открывается взору зрителя, в которую и ведет узкоколейка (земной путь каждого из персонажей), постепенно забирает их туда, где в тумане неизвестности и дымке надмирной жизни маячат то агнец божий, блеянием своим напоминая нам, что овца – один из самых распространенных библейских символов, и наводит на мысли: коли есть агнец, значит, там за туманом есть и Пастырь; то возникает гусь, также занимающий особое место в мифологии, являясь посланником между мирами; то забавная клуша – а это, ссылаясь на источники, и вовсе можно интерпретировать как послание из духовного мира…
Вообще, спектакль режиссера Пектеева насыщен символами. Я говорю, например, о шарманке, которую носит на себе трогательный Вафля (прекрасная работа Ильсура Баимова! Таким я его раньше никогда не видела), а шарманка, сколько я помню – это не только символ меланхолии и ностальгии, последнее особенно характерно для безобидного и такого трогательного приживала, но и символ дороги, которая бывшего помещика Телегина с такой смешной кличкой также ждет, а еще и символ свободы – вот Вафля и освободился, уходя в туман с песней «Степь, да степь кругом» и уводя за собой трогательную и такую чудесную в любви к ближнему няньку Марину (эту роль в паре замечательно играют актрисы Гузяль Маликова и Минзаля Хайруллина, и мне трудно сказать, кто из них лучше, обе очень и очень хороши, добившись того, что Марина Тимофеевна из второстепенного персонажа выходит на первый план!).
Вообще, при всей моей любви к коллекционно подобранной труппе Башкирского академического театра, скажу, что соприкосновение с драматургией Чехова волшебно преобразило даже тех актеров БГАТД, с которыми, казалось бы, я хорошо знакома и искренне их люблю. Но вот такими я раньше их не знала! Возвращаясь к символам, не могу не вспомнить ночной эпизод, связанный с капризами и страхами профессора Серебрякова, в сумраке достающего карманный брегет и пытающегося понять, который сейчас час. Серебряков – фантастически точная и прекрасная работа Фаниса Рахметова. Профессор приходит в ужас: часы стоят, его время остановилось! Но ведь время остановилось для каждого из них. И этот зал ожидания, в котором они вновь и вновь проживают свои обиды, печальные воспоминания, все их бытие, лишенное радости и даже какого-то намека на счастье, погружено в туман безвременья. Шекспировского «распалась связь времен» сказать не могу, это все-таки, наверное, больше о другом… О точном времени мы, пожалуй, вспоминаем в этом спектакле дважды. Это связано с фразой Астрова, в ответ на разговор с Мариной: «В десять лет стал другим человеком!», и со словами Войницкого, который за двадцать пять лет выплатил весь долг за имение, которое пошло в приданое его любимой сестре… Об этих блестящих ролях, соответственно, Руслана Хайсарова и Азата Валитова я скажу чуть позже, а сейчас хочу обратиться к тому, что весь спектакль Степана Пектеева пронизан тонкими нитями, связывающими героев «Дяди Вани» с персонажами других чеховских пьес. Мне кажется, это добавляет спектаклю объема и глубины, рисуя картину российской жизни в провинции. В дополненных репликах Астрова-Хайсарова читается судьба Кости Треплева, читается то, что бы, скажем, могло стать с Константином Гавриловичем, если бы он не застрелился, а просто убил бы себя и свое дарование той жизнью, которую ведет Михаил Львович, спасаясь от обывательщины существования уездного лекаря только лишь неизбывной и деятельной любовью к русскому лесу. А в какой-то момент, в первой попытке уйти в открывшийся проход, в лимбу Астров произносит столь характерное для другого чеховского врача Ивана Романовича Чебутыкина: «Та-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я…» Эта фривольная шансонетка звучит у Чехова и в «Володе большом и Володе маленьком». Кстати, данные строчки имеют продолжение: «И горько плачу я, что мало значу я…»
Мне кажется, постановщики изначально добивались того, чтобы в образе Астрова зрителю виделись чеховские черты – пиджачок его напоминает элегантный френчик, а пенсне и вовсе напрямую уводит к портретным характеристикам Антона Павловича; добавляет этому достоверности и записная книжка, которую Астров-Хайсаров не выпускает из рук… Ни Руслан Хайсаров, ни Азат Валитов, играющий, что называется, на разрыв аорты, ранее не достигали во всех своих чудесных работах такой глубины и невероятной искренности.
Нельзя обойти вниманием и женские образы – три потрясающих, на мой взгляд, творческих высказывания таких актрис, как Эльвира Юнусова, Милена Сираева и Лилия Галина; каждая заслуживает отдельного материала! Но сегодня я лишь коротко скажу, что в «старой галке» – маман Ивана Петровича Войницкого вдруг загорается свет Нины Заречной и нереализованные мечты женщины, жизнь которой не имела никакого смысла, как и жизнь ее сына, и по капле утекла в песок времен. Мария Васильевна – Эльвира Юнусова потрясающе читает монолог Заречной о мировой душе (еще один пектеевский отсыл к тому, что могло бы со временем стать с героями других чеховских пьес). Глаза ее горят, плечи распрямляются, в голосе звучат то серебро, то металл, а у меня по спине бегут мурашки!
А Милена Сираева! Я, если честно, не помню такой Елены Андреевны – праздной, так и не нашедшей своего места в жизни, бесконечно страдающей от нелюбви, от своей ненужности, от того, что во всех ситуациях она является просто эпизодическим лицом!.. И в сцене объяснения с Астровым зритель просто физически ощущает то огромной магнетической силы влечение, которое она испытывает к доктору, его таланту, его голосу… И каким контрастом смотрится в сопоставлении эпизод ее объяснения с Войницким, страсть которого вызывает в супруге профессора чуть ли не чувство гадливости!
В откликах на спектакль я прочитала размышления одной из зрительниц, которую костюм Елены Андреевны навел на мысли об образе Наташи из «Трех сестер». Эти рассуждения мне не близки. Кремовые, чуть розоватые тона пальто профессорши и ее нежно-зеленый шарф не рифмуются с костюмом Наташи, мещанки, формально победившей сестер Прозоровых, воцарившись в их доме, но на духовном уровне проигравшей им по всем статьям. Мне кажется, что впечатлительная эта зрительница просто не так давно посмотрела спектакль «Прозоровы», который, взяв за основу пьесу «Три сестры», режиссер Кирилл Заборнихин поставил на сцене Дома Актера на четырех замечательных артисток. Так вот в «Прозоровых» этот пассаж, касающийся зелено-розовой гаммы, по замыслу постановщика повторяется не один раз, тем самым являясь характеристикой пошлой, жадной душонки Наташи. А вот от спектакля режиссера Пектеева и художника Андреевой данная аналогия все же далека, поскольку характер у Елены Андреевны совсем другой, и Милена создает его очень бережно, тонко и с абсолютным пониманием того, какой человек ее героиня.
И еще одна блистательная работа – Соня, дочь профессора Серебрякова, сыгранная Лилией Галиной с невероятным ощущением того, что значит жить в нелюбви!..
Девочка-ребенок, очень рано оставшаяся без матери и ненужная своему отцу, живущая в имении и только и делающая, что помогает дяде Ване с бумагами и счетами, взвалив на свои плечи часть отнюдь не женского труда – считает мешки с зерном, ездит на сенокос, расплачивается с работниками… Ее никто не приласкал, не то чтобы лишний раз, а вообще, разве только нянька Марина иногда приголубит! Никто не научил барышню-крестьянку тому, какой должна быть настоящая женщина! Вот и выросла Соня замороженным дичком, странной, не знающей девичьих шалостей Снегурочкой, лишенной любви отца, не знакомой с радостями и многими дамскими секретами и приятными мелочами. Она все время прячет свои истинные чувства, помня только о работе, долге и о том, что профессору в город необходимо отправлять собираемые по грошам деньги. И конечно, когда появился Астров, яркий и дерзкий на фоне всех, кого она привычно видит ежедневно, сердце ее дрогнуло. Но сказать, признаться Михаилу Львовичу эта патологически застенчивая девочка-подранок страшится, будучи уверенной в том, что неизвестность – все-таки дает какую-то надежду… В этой филигранности создания образа Лилия Галина и Азат Валитов, потрясающе сыгравший роль человека, вдруг понявшего, что жизнь прожита зря, равны. И каждый их эпизод, каждая сцена вызывают в душе моей трепет и чувство глубокого сострадания. На три этих вечера, которые я провела в Башкирском академическом театре, оба исполнителя в моем сознании просто срослись со своими героями! И теперь мне трудно поверить, что в реальной жизни они абсолютно другие…
Мне не хотелось говорить про спектакль слишком много… И не только потому, что я с нетерпением жду статью профессора Вербицкой, но и потому, что не стоит раскрывать всех карт зрителю, коему только лишь предстоит пойти на спектакль «Дядя Ваня». Однако еще кое-что мне придется добавить, чтобы оправдать заголовок к данному тексту.
...В финале, когда Астров последним уходит по открывшемуся пути в надмирное пространство, через мгновение из тумана навтречу зрителю выходит крохотная копия Михаила Львовича, в очках и френчике такого же цвета и кроя… И звучит юный голос, произносящий текст Кости Треплева из первого акта «Чайки»: «Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах…» Будущее, продолжение всех наших героев в лице очаровательного молодого человека, вернувшегося к нам взамен ушедших в небытие, играют в паре братья-близнецы Данияр и Бахтияр, сыновья актера Юнира Куланбаева. И вот это пришедшее к нам будущее трижды транслирует залу посыл Константина Гавриловича Треплева: «Такою, как она представляется в мечтах». Значит, это все-таки главная мысль спектакля? Поэтому я и вспомнила название цветаевского стихотворения, вынесенное в заголовок. То есть рассвета, даже на рельсах, уводящих в нереальность, мы дождемся, и мечты, мысли и чувства ушедших героев не останутся втуне… То есть из пепла тех, кто покинул нас, выйдут новые голоса, имена, мысли и характеры, и они будут другими, быть может, лучше предыдущих, но что-то хорошее они от своих предшественников возьмут и приумножат. Рифмуется ли это с финальным монологом Сони: «Мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем. Я верую, дядя, я верую, горячо, страстно…»? Это Вам предстоит решить самому, уважаемый зритель!
Илюзя КАПКАЕВА.
Фото Руслана ЮЛТАЕВА.
Фото Руслана ЮЛТАЕВА.
 25-03-2025
25-03-2025  (0) Просмотров: 210 Номер: 21(13856) Версия для печати
(0) Просмотров: 210 Номер: 21(13856) Версия для печати