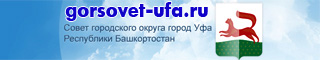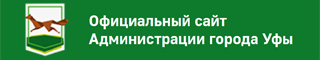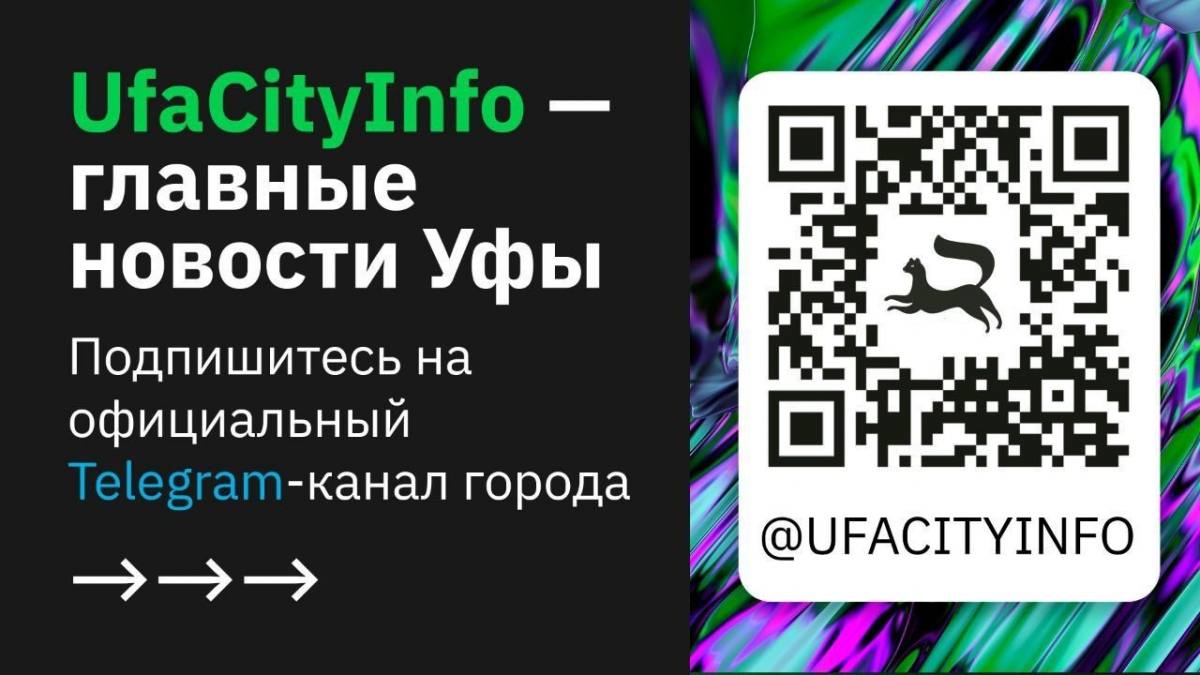А у нас во дворе...
В год 40-летия Победы в “Вечерней Уфе” был опубликован мой очерк “Дом №11”, где я вспоминала свое военное детство - с 6 с половиной лет до окончания четвертого класса. Там было такое отступление:
“Пишу эти строки о событиях более чем 40-летней давности с сомнением в том, нужны ли сегодня, когда о войне подробно и мудро вспоминают люди, что пережили ее в зрелом возрасте, отрывочные впечатления ребенка. Но не писать не могу, потому как чем дольше живу, тем отчетливее понимаю, что именно эти годы сформировали меня и моих сверстников, придав им узнаваемые черты одного поколения...” Теперь, когда с начала Великой Отечественной миновало уже 75 лет, когда фронтовиков и ковавших Победу в тылу осталось, увы, совсем немного, их драгоценные свидетельства, подкрепленные детскими, продолжают восстанавливать историю великих потерь и великих подвигов, печали и горя, стойкости и самоотверженности.
Первый день войны запомнился суровым голосом из репродуктора, бабушкиными слезами, но это расстроило меня всего на несколько минут, потому что во дворе, куда меня быстро выпроводили, да еще с “французской” булкой, намазанной маслом, светило теплое июньское солнышко и вышла с мячиком моя подружка Галка. Как вдруг в эту привычную беспечность тревожным диссонансом ворвалось рыдание нашей дворничихи тети Дуси, прерываемое ее причитанием: “Господи! Как же мы без тебя, Гри-и-шень-ка!..” Снова безутешные всхлипывания, и низкий ласковый голос дяди Гриши Будорагина: “Да успокойся же, Дунь, право слово. Береги Таньку, а я вернусь. Каких-то два месяца, и вернусь...”
Он ушел на войну первым из нашего двора, маляр дядя Гриша, которого так любила детвора - он учил нас играть в волейбол, терпеливо разъясняя: “Сила тут ни при чем, право слово. Мячик надо пальцами толкать...” Следом призвали дядю Сашу Шарапина - по нашим понятиям, он был уже в возрасте. Его сын Борис тоже рвался на фронт, но 18 ему исполнилось только через 2 месяца, как раз когда он должен был пойти в десятый класс. Мы его провожали всей ребячьей стайкой до угла, он подарил нам свою обаятельную улыбку с ямочками на щеках и сказал: “Дальше вам нельзя, там машины ходят”. Забегая вперед, в майский день победного 45-го, как сейчас вижу тетю Лену Шарапину на лавочке возле деревянного стола под черемухой, она бьется головой об оструганные доски: “Сашенька, Борик... Сашенька, Борик... Никогда, никогда вас не увижу...” А пятиклассница Нина гладит ее по плечу и просит: “Мамочка, ну не надо, мамочка...”
Бомбить Горький, где я тогда жила, фашисты начали почти с первых дней. Во дворе выкопали так называемую щель в виде зигзага, где все наши семьи, вжав головы в плечи, отсиживались во время воздушных тревог. Они случались ближе к ночи: педантичные немцы прилетали бомбить военные заводы в одно и то же время - в полночь. Уже позже огромное бомбоубежище устроили в бывших подземных складах, что расположились вдоль берега Волги. Их оборудовали деревянными нарами в три этажа и туда с вечера уходили с узелками документов и самых необходимых вещей. Предъявляли на входе специальные пропуска, что выдавались женщинам с детьми и старикам. Бабушка со мной и маленькой сестренкой на руках имели право на нижнюю полку. Дед оставался дежурить на крыше. На случай попадания зажигалки там стоял ящик с песком, и старики с подростками должны были успеть кинуть в него бомбу, пока она не разорвалась. Мама работала в редакции областной газеты, которая выходила утром, а печаталась ночью. Частенько она задерживалась на работе, транспорт уже прекращал движение, а идти надо было по мосту через Оку. И однажды, когда дежурила по номеру, попала как раз в момент возвращения фашистских асов после бомбежки, так один самолет спустился и стал стрелять по людям на мосту. Мама оказалась у ограды, прижалась к ней, и это ее спасло.
Очень скоро та “французская” булка с маслом, да еще посыпанная сахарным песком, что я лениво жевала в роковое воскресенье 22 июня, стала недосягаемой мечтой. Норма хлеба по карточкам, яичный порошок, сахарин, лярд вместо жира, спасительница-картошка, выращенная на небольших земельных участках, что выделяли далеко за городом. Отчим, которого на фронт не взяли из-за проблем с ногами, был послан на трудовой фронт - на болотах добывали торф. Там, кроме вечной сырости для больных ног, одолевала еще и малярия. Эта жуткая болезнь долго не отпускала и мою маленькую сестру, ее трясло от холода, никакие одеяла не помогали. Ни витаминов, ни толковых лекарств, к ней липли все детские недуги. Однажды поздно вечером ей стало особенно плохо, позвонили нашей родственнице - детскому врачу. Опасались, что не сможет добежать до нас, поскольку в полночь начнется воздушная тревога. И словно услышал Всевышний - в эту единственную ночь гитлеровские бомбардировщики не прилетели.
Наутро мы с бабушкой попали на рынок - иногда удавалось купить что-то свежее для сестренки. А там перед входом сидели и лежали оборванные усталые люди - это были эвакуированные, пребывшие пароходом и ждущие распределения по городу и области. И вдруг к бабушке бросилась какая-то исхудавшая пожилая женщина. Подруга еще по школе со стариком-отцом и семьей сына-фронтовика бежала из Белоруссии, где буквально земля горела под ногами. Мы привели их - то ли пять, то ли шесть человек - к себе домой, в нашу 28-метровую комнату коммунальной квартиры, где нас самих было пятеро, и все как-то размещались в течение недели, пока их не определили в Балахну, недалеко от Горького. Потом у нас целый месяц жили эвакуированные москвичи, родственники деда, и одна из них, что на 2 года меня старше, шутливо пеняла мне через много лет, почему не давала ей читать книжку Бориса Житкова “Что я видел”. Может, так и происходило, поскольку это была моя любимая книжка.
И еще я вспоминаю госпиталь, в который превратилась больница напротив нашего двора. Говорю двора, а не дома, потому что двор образовывало каре из трехэтажного, двухэтажного домов и двух одноэтажных флигельков. Всего в них насчитывалось восемьдесят четыре жильца, но тогда мужчины отсутствовали, часть женщин уходили на работу, и так получалось, что почти все остальные, включая детей, так или иначе были связаны с госпиталем. Эвакуированная тетя Аня Поплевич служила там санитаркой, тетя Шура Тихомирова и две Веры - Полетаева и Родина - шили для раненых простыни и наволочки. Недавно заселившие подвал две семьи с Украины имели маленьких деток, но на дому стирали использованные бинты, и возле их окон стелился пар, пропитанный запахом крови. Ребятишки бегали через дорогу к деревянному забору, где как-то размещались раненые, которые могли передвигаться и хотя бы немного приобщиться к жизни на улице, что звалась Университетской. С одним, у которого шея и рука были в гипсе, я познакомилась, он весело махал здоровой рукой и как-то подарил набитый опилками мячик-попрыгунчик на резинке. Мне стало обидно, что принял меня за малышку - ведь в следующем году я поступала в первый класс. Тогда в этот госпиталь уже ходила выступать: пела дуэтом с девочкой Роной “Синенький скромный платочек”. И даже в одной из палат увидела “моего” раненого - он уже шевелил пальцами, а шея еще была забинтована. Но это совсем другая история - из 1942-го. А пока еще не кончилось суровое лето первого года войны...
Алла ДОКУЧАЕВА.
 31-05-2016
31-05-2016  (0) Просмотров: 1 162 Номер: 103(13001) Версия для печати
(0) Просмотров: 1 162 Номер: 103(13001) Версия для печати