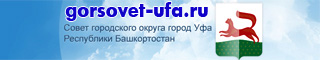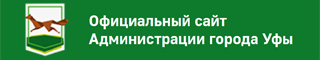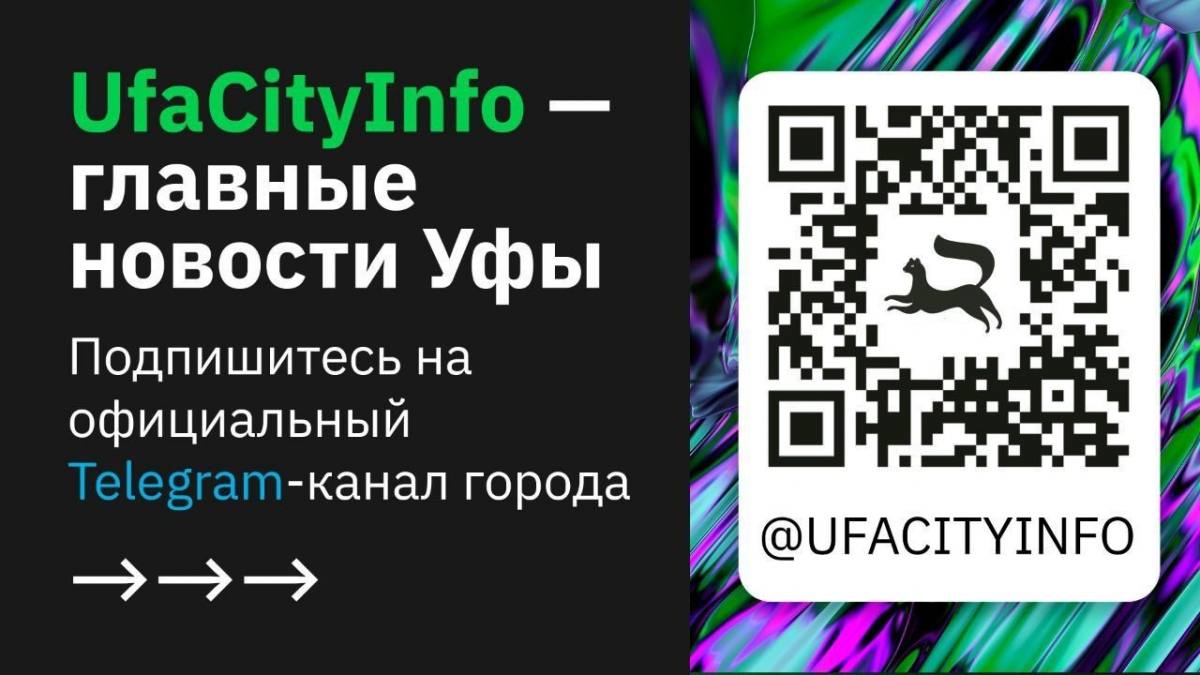Наталия САННИКОВА: «Преображённый свет сильнее тьмы»
Это вторая подборка стихотворений в «Вечерней Уфе» поэта Наталии Санниковой. Первая, получившая название «На белом ярче проступает жизнь», вышла в нашей газете в декабре 2020-го. И время спустя я стала просить Наталию Николаевну продолжить сотрудничество с «ВУ». Но Санникова, на мой взгляд, относящаяся к своей лирике достаточно критично, долго отказывалась от предложений, ссылаясь на то, что нового в ее творческом багаже очень мало, а то, что уже вышло из-под пера, она пока не считает возможным публиковать. Конечно, с ножом, что называется, к горлу я не приставала, но, видя появляющиеся новорожденные образцы лирики Наталии Николаевны в социальных сетях, попыток своих не оставляла.
Результатом моей настырности и стала сегодняшняя «Поэтическая тетрадь», в которую вошли сочинения поэта и известного журналиста Наталии Санниковой последней поры. Напомню читателю о том, что наша нынешняя гостья в свое время окончила отделение журналистики Башкирского государственного университета, работает она на «Радио России – Башкортостан», являясь автором и ведущей таких программ, как «Переплет», «Активный словарь», «Мысли вслух», «Из жизни слов», «Такая история», «Арт-кафе»… Начинала с передач иной тематической направленности, сколько я помню, отдав должное даже медицине. Впрочем, если переходить на терминологию профессиональных музыкантов, исключительная индивидуальная приспособленность моей героини к таким «инструментам», как Русская речь, Великая Русская литература, невероятное чувство слова и осязаемое ощущение живого великорусского языка, видимо, все-таки взяла верх, а возможно, кто-то из большого начальства с ГТРК «Башкортостан» понял наконец, что предназначение Санниковой в эфире в первую очередь укладывается в понятие «словесность». И именно она легко и свободно поведет с гостями своих программ и со слушателями, естественно, беседы о художественной литературе, публицистике, поэзии, письменности, о прессе, в конце концов. Кстати, меня несказанно удивило то обстоятельство, что Наталия Санникова окончила именно журфак. Наблюдая за ней в течение некоторого времени, слушая то, сколь виртуозно вступает она в диалог с кем-нибудь из представителей изящной словесности, понимая, что у этой молодой женщины очень большая база знаний, я была уверена, что за ее плечами изрядное образование, которое дает именно филологический факультет. Впрочем, это понимание природы слова и владение им у журналиста и поэта Санниковой, как в таких случаях принято говорить, от Бога. Что называется – дано. Вот и новая подборка ее стихотворений есть подтверждение тому, во всяком случае, столь своеобразного и неожиданного парафраза пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» я еще не встречала («Звук лопнувшей (в который раз) струны…»). Вообще, Наташа – очень тонкий, чрезвычайно думающий, наблюдательный и образно мыслящий человек, в ее «палитре» можно встретить самые необычные идеи и размышления: чего только стоит осмысление картины нашего нынешного бытия по шкале ценностей самого Иеронима Босха («Нет больше тверди – старый мир раскис»)… Впрочем, не стану забегать вперед, предлагая читателю самому открыть для себя новые стихи Наталии Санниковой.
Добавлю лишь то, что Наталия Николаевна – дважды финалист Международного фестиваля «Живое слово» (Большое Болдино), дипломант Всероссийского конкурса «Родная речь» (Ясная Поляна), лауреат Международного конкурса «Кубок мира по русской поэзии-2014» (Рига), обладатель Приза симпатий «Рижского альманаха» и Литературного интернет-журнала «Русский переплет».
Илюзя КАПКАЕВА.
***
1.
Унылая, пора, настал багрец.
Пиши пропало, если не борец,
пловец, гребец, короче, кто-то крепкий.
А наша сила вся ушла в слова.
Словесностью забита голова,
вся – до последней самой
нервной клетки.
Из пламенных язвительных рябин
вдруг выпрыгнуло слово «хунвейбин»,
бьет маршем изнутри по барабанным,
и голова как будто не моя –
там Лю Цысинь, Чжан Юэжань,
Мо Янь – плесните в кружку гаолянки, бармен!
Чудовища у каждого свои,
чудовищный разнообразен вид.
Есть версия, что люди – от лягушки
произошли, и встали, и идут,
туда, где барабанит стражный суд,
где невозможен Пушкин.
По счастью Пушкин светит в вышине
сквозь чёрный дым
и черноречный снег,
из гениев один не изувечен
древнейшей магией, что осенью острей.
Жгут ведьму на рябиновом костре –
она настырно прорастает речью.
Так хочется, продрогнув на ветру,
шагнуть навстречу горькому костру,
найти слова, которые согреют.
Трёхмерного пространства тонок лёд.
С той стороны, из темных млечных вод,
багровая встаёт Гиперборея.
2.
и голоса встают из-под земли
осенним лесом, слово – красный лист
остановись, в конце концов, прохожий
прохожий слышит, думает: багрец,
пора бы к мозгоправу, наконец,
но дорого, к тому же – не поможет
прохожий, в уши музыку воткнув,
бежит, басы в ушах его как кнут,
бежит, чтоб самого себя не слышать
багрец пройдёт, он верит, будет снег
борец, пловец, гребец как человек
к ногам дрожащим приспособит лыжи
***
Босыми ногами осколки
ловила в хрустальной траве.
Занозы, колючки, иголки
и шишки – дурной голове.
Проворными пальцами ловко
проем защемляла дверной.
Штакетник дарила обновкой.
Утюг обжигала спиной.
И землю собой ударяла,
ныряя солдатиком с крыш.
С деревьев слетала коряво,
пугая вечернюю мышь.
Был пруд до глубин взбаламучен
желанием глубже вдохнуть….
Я выжила благополучно,
опасный продолжила путь.
Смотри, говорила мне мама.
Смотрела, но под ноги – нет.
Сквозь мытую вечную раму
нездешний мерещился свет.
Меня провожала родная
до дрожи, до сладкой слезы
заброшенность отчего края.
Бурьяна колючий язык
шуршал на полынном наречии
репейную песню тоски.
Так юность вошла в междуречье:
плененный растерянный скиф –
в оседлую тесную скуку,
где скученность и толчея.
Измучена мною наука
терпения и колея
надежды бездомно-двудомной,
два мира скрестившей собой.
Я малую родину помню
как самую сладкую боль.
Я каждую ночь там – проездом,
брожу возле дома во тьме,
стоптала подмёток железо,
изгрызла железо в суме.
Все малая помнит и знает,
где носит пропавших детей.
И связь неразрывна сквозная.
И счёт бесконечен потерь.
Мне помнится март карантинный,
сирен проникающий вой.
Среди заключённых в квартире –
цветочный горшок с неживой,
казалось, недышащей почвой,
лишенной корней и семян.
И в ней вдруг прорезался сочный
росток, опаливший меня.
Зеленое майское пламя,
летучего детства укус:
на фоне немеркнущей рамы –
крапивы заносчивый куст.
***
Я мыла раму, распахнув окно
в глубины архаического сада.
Кровь превращалась в жаркое вино,
лоза отягощалась виноградом
и излучала поглощенный свет,
впитавший гнев небес и соль пустыни,
новейших лет суровый вторчермет
и допотопный космос ярко-синий,
незримого немыслимого пульс,
младенчества реликтовое эхо –
весь световой неизмеримый путь,
рассеянный, разлитый по прорехам…
Я мыла переплавленный песок,
добыть крупицы ясности желая,
но яростен в ударе солнцепек
и правда – злая как сторожевая.
Преображенный свет сильнее тьмы.
Но память – решето, дырявый лапоть.
И руки умывая не отмыть.
И хочется достать букварь и плакать.
***
Нет больше тверди – старый мир раскис,
и небеса в багровую полоску
по шиферу, шурша, сползают вниз,
в кошмарный сон Иеронима Босха.
Рискует выпасть квелый пешеход,
слепой, глухой – в протаявшие бреши.
В глазах двоится черно-белый код,
свистят вослед айтишники скворечен.
Сиротство на душе и сухостой.
Сто лет пурги расхлебывать потомкам.
Свистит неугомонно как снегирь
медбрат, гнездо устроивший в шестой,
сурок свистит на пограничной кромке,
веселый ёжик с дырочкой в боку,
печальный чайник, на плите забытый,
синицами поспевший горький куст –
свистят, что времени в моем раю в избытке.
По существу – его всегда в обрез,
и ножницы звенят на полуслове.
Когда свистят о мире и добре –
шевелится воинственное злое,
расчесывает язвы пустырей.
Зудит грибницу отрастивший атом.
И память запускает снегирей
к рассвету через лунную сонату.
В ночи безвидно, холодно и сыро,
мятежный носит дроны над водой –
горячей пьяной красной молодой.
Босх видел в страшных снах картину мира.
***
Тьма, подсоленная звездами,
где-то там, а тут – туман,
свет, электриками розданный,
сладостный самообман.
Хорошо сидеть на кухоньке
и беседовать на ты
увернувшимся и сухоньким
выплывшим из темноты,
и помешивая варево
на плите, что для живых,
о красивом разговаривать
с переходами на вы,
слушать нежный посвист чайника,
лопать кашу на овсе,
представляя, как нечаянно
Млечный Путь разлит для всех,
или, может быть, намеренно,
оттого и этот свет.
На овсе крепчают мерины,
поработаем и сверх,
чтобы было чем на старости
светлый оплатить уют…
Вот рассеются туманности –
астры ближе подплывут.
***
Все течёт, и текущему есть предел –
мир порядком выцвел и поредел,
под ногами горят пустоты.
На пределе пластичность, устал металл,
выжигает разумная маета
помешательство Дон Кихота.
За пределом текучести – медный таз
на монеты распался для зорких глаз,
проводник погружён и мрачен.
Мир – в потоке, где каждый
проводит ток.
Мир насмешлив – взрывается лепесток.
Что ты, глупая девочка, плачешь.
***
Во мне маловато магния.
Или, быть может, кальция.
Восторженной светлой магии,
сошедшей на дальней станции.
Очки мне трут переносицу,
и все-таки мир туманится.
Жизнь кое-как переносится,
как будто я с детства – старица.
Меня старый мир напитывал,
он плыл на горбах старушечьих,
корытами цвел разбитыми,
осколками ядер пушечных.
Анютины глазки плакали,
ромашки смотрели ласково,
закат распускался маками
и прочими чудо-красками.
Старухи вели в три голоса
рассказ на седой завалинке,
как холодно было, голодно,
когда божий мир был маленьким,
как поле им снится спелое
и поперек – дороженька.
Платки поправляли белые,
в поход нарядившись к Боженьке.
Была здесь река да высохла.
Теперь – урема с чилигою.
Так старость шуршит на выселках,
гремит в тишине веригами.
И вслух – вроде больше нечего.
Бог даст – буду внукам – Агнию…
За окнами буря мечется.
В стакане – она же – с магнием.
***
Звук лопнувшей (в который раз) струны,
стук топора, вишнёвый сок коры,
и человек, забытый на диване, –
все как-то дотянули до весны,
горят в печи дрова, и до поры
артрозный кукиш прячется в кармане.
Ещё чуть-чуть и зацветёт фантом,
запахнет долгим позапрошлым веком,
в котором был ужасный моветон –
забыть в холодном доме…
(Саундтреком звучит виолончель, палит ружьё,
вишневой мазью пахнет бумазея.)
А в двадцать первом шустрое жульё
по Пушкинской гуляет не в музеях.
А что там человек – ни жив, ни мёртв?
Дом заколочен, ну и он – крест-накрест.
Дом, домовина – лобовой намёк на новый адрес.
Не следует мешать сходить с ума.
Спит человек без имени и отчества.
Капель, лавровишнево пахнет март.
Лишь ангелы не знают одиночества.
***
Утром восстанешь с чувством границы,
будто всю ночь налегал на весло
и наглотался темной водицы,
так что земное забыл ремесло.
Опустошенный и оглушенный,
будто в окопе слушаешь рев
гордого города с глоткой луженой –
что там сегодня, опять рагнарек?
Нет, не сегодня, пока еще август,
катится яблоко, светится мед
и среди веток пернатая благость
что-то на птичьем поет.
В мае открыли сезон каруселей
сорок четыре уфимских стрижа,
пыльную гамму омыли в купели
и просклоняли по падежам.
Что кроме страха? Что кроме шуток?
Кто там на нервах? Кто на трубе?
Я выдвигаюсь привычным маршрутом
к жизнеспособной себе.
Что-то чеширское в виде трамвая,
кажется, с ветки и ноты собьет…
Нет, не сбивается.
Как заводная песня
талдычит
свое.
Все отыграется, все отзовется.
Мнится: в компании птиц
там среди веток, в небе под солнцем –
Тот, Кто не знает границ.
***
Все под рукой:
включая свет щелчком,
мгновенно привыкаешь к благодати.
Не насыщают молоко и мед,
ортопедический комфорт кровати
не избавляет от зловещих снов:
в погоне за покоем сбившись с ног,
в ментальный погружаешься колодец
и тонешь в человеческой природе,
в которой все как встарь.
Что нам соврет сегодня календарь?
Все на бегу:
едва разлепишь веки,
сомнамбулой шагнешь то в снег,
то в дождь –
под фонарем у дорогой аптеки
с лотка торгуют всякой ерундой
китайского широкого разлива.
Лежат простые вещи сиротливо,
забытые людьми на берегу.
Вид тапочек, припорошенных снегом,
прохожему о чем-то намекнет.
И он свернет, ругая гололед,
в аптечный храм – за альфой и омегой.
***
Что ж ты стоишь поперек – бурьяном,
там где была тропа?
Знаю, отпустишь на время пьяного,
трезвому здесь – пропасть.
Выкружишь из тополиной пены
духом остывших гнезд,
вцепишься взглядом пустым репейным
и в три дуги согнешь.
Глянешь с улыбкой чертополошьей,
острой пунцовой злой,
будто все было ошибкой, ложью,
стало печной золой.
Эти места обходить бы лесом,
но – это путь домой.
Знаешь ты, милая, много песен,
хочешь еще – со мной.
Сядем с тобой на крылечке ветхом,
ты обовьешь вьюнком
и поцелуешь, ошепчешь ветром,
выдохнешь сквозняком.
Ты никогда не была на море,
вся – на степной мотив.
Я отпускаю тебя на волю.
И ты меня отпусти.
***
Не убоюсь,
твержу, не убоюсь.
Частица «не» коварная частица,
железная на вкус.
В долине смертной тени не напиться –
пустынный дух на языке змеится
частицей не,
прости, но я боюсь
терять и потеряться,
не надеясь найти, найтись,
что может быть страшней.
Поет Давид,
Израиль с Иудеей,
двадцать второй пророчит чёрный снег.
Безумство – храбрым, маловерным – время,
все фобии цветут в его гареме.
В долине смертной тени – тихий час
звучит сомнительно и тает как свеча.
В часы затишья страх ещё сильней.
За что же я борюсь с частицей не,
кто враг мой и кого теперь прощу?
Грохочет век громоздким голиафом.
Чем поразить его? Ищи пращу,
забытую в пыли за книжным шкафом, –
союз суровых каменных частиц.
Доспехи не спасут – был мудр Давид.
Внутри то замирает, то частит –
мне этот свет огромный не по силам.
Фотонный зайчик, огонёк свечи –
от пажитей отмычки, не ключи,
луч слова заповедного курсивом
боюсь в сознании худом не удержать.
Все рассыпается,
дробится и двоится.
Блажен, кто вопреки не убоится.
***
Глянешь вверх – ни просвета,
ни Млечной тропы, ни звезды –
что-то хмурое, смутное
над настоящим нависло.
С каждым годом становится слаще
прошедшего дым,
календарь – на растопку, в нем –
чёрные, красные числа.
Тощий численник выдохся, переболев декабрем,
догорел в белобокой голландке за дверцей чугунной.
Кто-то через пустыню до светлого чуда добрёл,
через горы и степи, где мчатся буранные гунны,
вьются призраки прошлого, дальних и ближних дорог,
долгих войн затяжных и короткого зыбкого мира.
Хорошо у Источника света и светлых даров,
размышлять, что есть золото, ладан и смирна.
Помню запах смолы и шершавую вязь бересты,
древний волхв из восточных то синим, то алым, то желтым
языками вещал, и соцветием из темноты
проступала картина в часовне, расписанной Джотто.
Милосердный лазурный, сияние нимбов и лиц,
руки Матери, рыжеволосый Младенец,
ангел в профиль, кричащий верблюд,
мир без чётких границ,складки, волны материи той,
что надежда наденет,
чтобы рядом с любовью и верой идти сквозь метель,
по пустыне иной, где сугробы
пушистыми стынут горбами,
не пески, а снега отмеряют размах пустоте,
и пространство, и время – здесь все измеряют снегами.
Есть зловещее нечто в земном
ненасытном огне,
в тусклом блеске даров,
обесцененных многокаратно.
Перспективы прямой в нашем будущем,
кажется, нет.
Перспектива стремится обратно.
Детским зрением древних смотреть,
чтобы глаз не сводить,
словно там, над разбухшим навесом, –
звезда, не комета,
Рождество наступило –
и страшное все позади,
и над линией смертных огней –
вечность – чистое золото света.
07.01.23
 26-09-2023
26-09-2023  (0) Просмотров: 356 Номер: 67(13720) Версия для печати
(0) Просмотров: 356 Номер: 67(13720) Версия для печати