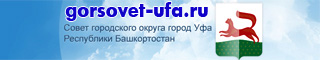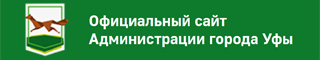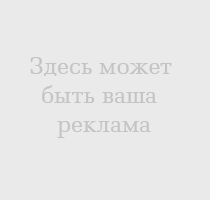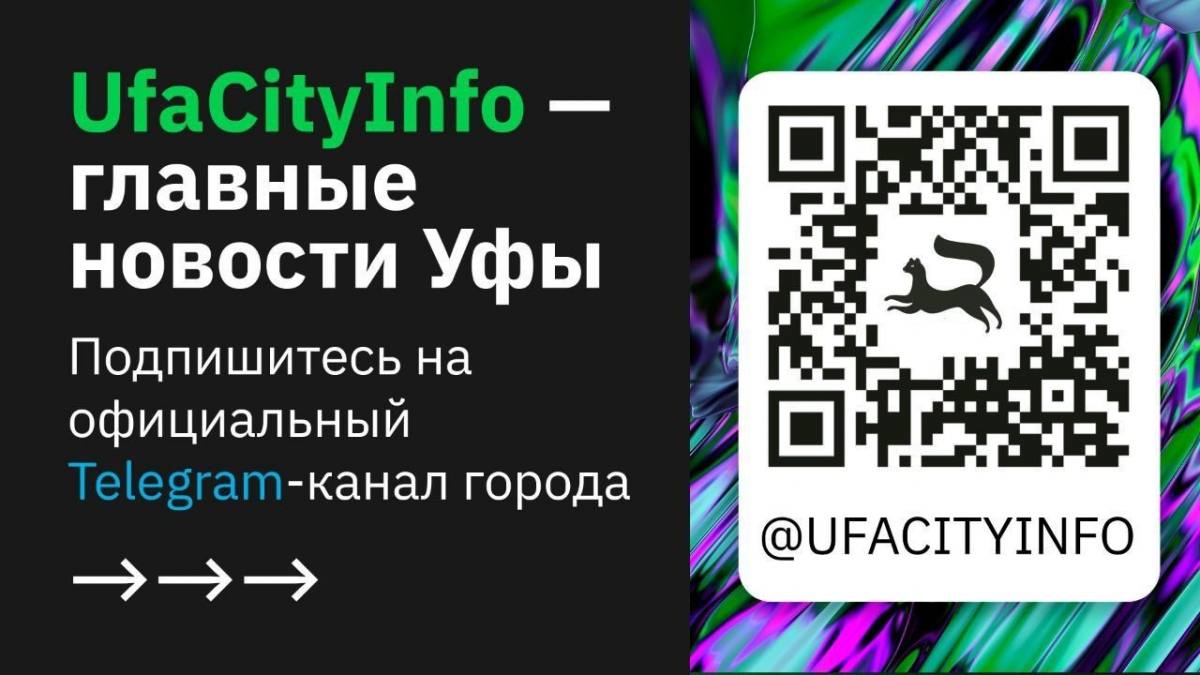Не бойся жить счастливым
Сегодня мы предлагаем читателю обещанные ранее размышления театрального критика Галины Вербицкой о спектакле Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова. Режиссер - Степан Пектеев. Художник - Катерина Андреева. Композитор - Евгений Роднянский.
…Спектакль кричит, дышит-задыхается, захлебывается, поет, демонически хохочет, плачет-рыдает, мастерски мешает два языка - башкирский и русский (титры), шепчет, шипит, воет-гудит - словом, всепроникает. Не оставляя ни единого «зазора», ни малейшей возможности для проникновения хрестоматийно известного чеховского «воздуха». Поэтому сказать, что с самого начала пришлось преодолевать собственное сопротивление - не сказать ничего…
Но с течением сценического времени этот дискомфорт, опрокидывающий все привычно-удобное, чудесным образом пробудил другие стадии восприятия. Осознание, принятие и - уж совсем неожиданно! - удивленно-радостное подчинение художественным законам, по которым авторы спектакля создают-творят-ворожат свой мир.
И - вот оно, волшебство театра: время сценическое становится временем физическим. Режиссер-визионер, выбравший для своего художественно-пророческого высказывания тему времени и вечности в чеховской драматургии, словно погружает персонажей (и не только!) в состояние некоего перехода, заставляя трансцендировать, выходить за пределы не только повседневного, но и всех своих установок о мире, театре, Чехове и… о себе.
Именно это тревожно-трепетное ощущение переходности, волнение, страх ожидания перед неизбежными грядущими переменами было воплощено в спектакле буквально. Прежде всего, в организации сценического пространства. Зритель, минуя привычный зал, располагается на сцене. Возникает весьма необычное ощущение, словно мы вглядываемся в самих себя. Ну а на сценической площадке - то ли заброшенная железнодорожная станция (рельсы обрываются прямо перед зрительскими местами), то ли - «железнодорожный» узел всей чеховской драматургии… А возможно, это зал ожидания, где «пассажиры» устали, терзаются, изнывают, а «поезда» все нет…
…Там и сям разбросаны старые чемоданы, некоторые - перевязаны веревкой… Но почему-то никто до них даже не дотрагивается…
Куда же собрались эти люди, где чемоданы им будут не нужны? Чего они ждут? Отчего изнывают, сокрушаются, мучаются, скандалят и даже стреляют?..
Все дело в том, что герои спектакля Степана Пектеева никуда не едут. Перед нами - не пассажирская станция, а - «символическая» (так называл Москву - несбыточную мечту в пьесе «Три сестры» критик А.Р.Кугель). Здесь все пребывают в ожидании своей участи, в затаенной надежде на ее счастливую перемену…
Режиссер ведет интертекстуальный диалог с «Чайкой»: обе пьесы, написанные в одно время («Чайка - 1896 год, «Дядя Ваня» - 1897 год), представляют двух похожих героев - Константина Гавриловича Треплева и Ивана Петровича Войницкого. Оба живут в предельно напряженную, переходную эпоху. Оба - талантливы. Вот только Костя наделен художественным талантом. И это само по себе делает его трагической фигурой. А Иван Петрович наделен даром абсолютной честности, добропорядочности и наивной искренности…
Герой Азамата Валитова страстен до исступленности. Причем артист не просто самоотверженно передает предельное, крайнее состояние своего персонажа. Он существует настолько интенсивно, что в каждое мгновение его сценического бытия можно уместить не просто жизнь, но - судьбу. Войницкий Азата Валитова - человек с глубоко потрясенным, смятенным сознанием. Он жаждет любви, признания, славы, но… боится жизни. В его одежде нет места «шелковым галстукам». До изящных ли деталей в костюме, когда жизнь лавиной мчится с горы, разрушая все и вся… Не будет у дяди Вани в руках и роз в знаменитой сцене, когда он застанет Елену Андреевну в объятиях Астрова. Со сведенными судорогой широко расставленными пальцами, шатаясь он не выйдет, а как-то странно «выпадет», словно ему не изменили, а - убили. Какие уж тут розы… Только шипы!
Одни шипы достаются и его племяннице Соне. В исполнении Лилии Галиной Соня - своеобразное alter ego дяди Вани. С детским усердием, привычно послушная, она изо всех сил старается делать все правильно, все успевать, никого не огорчать, но почему (и - за что?!) она так несчастна… Актриса, преодолевая свою очаровательную хрупкость и юную красоту, создает поистине шокирующий образ постаревшего ребенка. Если дядя Ваня Азата Валитова все время кричит от бессилия, машет руками, будто пытается отмахнуться от непреодолимой судьбы, задыхается от негодования, сетует, стонет, как от физической боли, то Соня Лилии Галиной - наоборот. Ее героиня периодически застывает-каменеет, механически поднимая руку, останавливаясь взглядом. Она давно уже «проглотила» все свои слова, капризы и крики. Она - тотально молчалива. Как маленькие дети, когда они не понимают, за что наказаны… Это только в самом конце Соню, что называется, «прорвет», а пока ее не любит даже родная бабушка… Тем более что Мария Васильевна Войницкая в спектакле - отнюдь не «старая галка maman», обезличенная и давным-давно отрекшаяся от себя пожилая женщина. Эльвира Юнусова буквально взрывает эту глубоко укоренившуюся традицию сценического воплощения Марии Васильевны и представляет свою героиню страстной, экстатически напряженной… Мировой душой. Закрываясь-загораживаясь от этой постылой жизни текстом «Чайки», «галка» Эльвиры Юнусовой грозит превратиться совсем в другую птицу - морскую хищницу. Эх, ей бы вырваться на просторы! А приходится с тяжким трудом и затаенной мукой не жить, а существовать… С какой брезгливой досадой отталкивает она от себя сына и внучку: неудачники, неинтересные, бесталанные. Совсем другое дело ее кумир - любимый Александр, профессор Серебряков. Он всегда - «лучше знает»… С каким теплом и любовью Мария Васильевна будет просить его фотографию - единственное ее лекарство от тоски-печали…
Герой Фаниса Рахметова (Серебряков) лишь благосклонно-милостиво принимает от окружающих внимание, обожание, любовь. Отвечать взаимностью - не для него! Фанис Рахметов играет Серебрякова не просто эгоистичным стариком, больным страдальцем. Это - злобный Кащей, пожирающий чужие жизни. Он - пугающий, страшный, его и пуля не берет. Но как актер воплощает панический ужас от невинного вопроса: «Который теперь час?»! Ведь для него это - приговор. Его время - на исходе.
А в плену у этого Кащея томится настоящая Елена Прекрасная. В исполнении Милены Сираевой Елена Андреевна - подлинная квинтэссенция женской сущности: от низменной алчно-похотливой Наташи из «Трех сестер» (на розовом пальто «намек» - длинный зеленый шарф) до трагической жертвы своего мучителя и… Мировой Души. Как жадно подхватит она у Войницкой этот монолог, как завораживающе низко будет звучать ее голос!.. Как каменеет-застывает она от ужаса, глядя на Серебрякова! Как сочувственно смотрит на незадачливого влюбленного дядю Ваню! С какой затаенной, отчаянной надеждой в пух и прах проигравшегося игрока - на Астрова… Руслан Хайсаров, заставляющий своего героя смеяться жутковатым, потусторонним хохотком, словно из пьесы «Леший» - предтечи «Дяди Вани». Только это не милый доктор Михаил Львович Хрущов, а, похоже, сам леший - цинично-похотливый, отталкивающий и притягательный в одно и то же время…
Однако ни инфернальное обаяние Астрова, ни душевная утонченность Войницкого Елене Андреевне Милены Сираевой не помогут. Она обречена на своего Кащея. Ни у кого из героев не хватает смелости совершить поступок. Они все, как и Войницкий, «живут миражами». Настоящая жизнь с ее болью и счастьем их страшит.
Впрочем, не страх даже охватывает Войницкого на предложение профессора продать имение. Не ужас, не возмущение. Герой Азата Валитова погружается в оторопь-столбняк. Словно не имение предлагают продать, а… его самого хотят вычеркнуть, исторгнуть из жизни! Но… разве дядя Ваня не боится жизни? Этот страх в точности повторяет классическую ситуацию «Русский человек на rendez-vous», описанную Н.Г.Чернышевским за несколько лет до рождения автора «Дяди Вани». Герой Азата Валитова не решается не только на изысканные галстуки, но и - любить, быть счастливым. То есть - жить полной жизнью. С-часть-е. Сочетание частей, полнота и насыщенность, целостность. Интересно, как в статье Чернышевского дается описание счастья: «…оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой ветром… легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но пропустите один миг - она пролетит… Невозвратен счастливый миг» [1, с. 173].
Поразительно, как героиня Милены Сираевой воплощает такое счастье! Вот она стоит у окна, жадно подставляя ветру разгоряченное лицо, развеваются ее длинные волосы… Но, похоже, только лишь эта ласка доступна несчастной красавице. Серебряков Фаниса Рахметова не хочет быть счастливым. Это для него, надо сказать, весьма хлопотно. Зачем? Когда можно быть просто - довольным. Хотя бы тем, что так ловко удается держать счастье взаперти. Астров - Руслан Хайсаров - походя, грубо задевает счастье, оставляя его беспомощно распростертым на рельсах. А счастье для дяди Вани Азата Валитова - эх… «Пропала жизнь!». А она была, эта жизнь? Возможно, она только тогда и начнется, когда и дяде Ване, и всем героям в спектакле будет суждено совершить переход из этого cумрачного «зала ожидания» в мир иной, доселе - неведомый и пугающий, но там - свет. Таинственный тоннель, закрытый до поры до времени, вдруг откроется-распахнется: там, в глубине, под ярко освещенной аркой из дыма - тумана появится чудный маленький мальчик (Бахтияр Куланбаев) - очки в круглой оправе, книжечка (блокнот?) в руках. Проводник? Юный Харон? Купидон, у которого больше не осталось стрел? Там же - к изумлению зрителей - покажутся барашек, гусь, бабочка - словом, «люди, львы, орлы и куропатки», только - живые, настоящие, кроме бабочки, конечно. Это поистине чеховское снижение патетики спасительной иронией приводит к открытию: в этот подлинный мир можно попасть только тем, кто прошел свой тернистый путь от существования - к сущности. Вот ее-то, эту сущность, и помогают раскрыть всем героям няня Марина и Илья Телегин. Гузяль Маликова и Ильсур Баимов делают своих персонажей камертоном сострадания и добра. Они не разбирают, кто достоин их участия, а кто - нет. Все страдали, все заслужили не только покой, но и свет. «Люди не помянут, Бог помянет». C какой истовой убежденностью произносит эти слова старая нянюшка! А сколько горького жизненного опыта, достоинства и смирения в Телегине Ильсура Баимова…
Думается, не случайно жанр спектакля обозначен в программке не как «сцены из деревенской жизни», а «тормош куренештэре», что в переводе с башкирского языка означает «сцены из жизни». Вот этот опыт жизни (и не только житейский!) и передают всем героям спектакля няня Марина и Илья Телегин. Это - опыт бесстрашия перед жизнью, драматический опыт духовной целостности. А как же в нем нуждаются все беспокойные обитатели «зала ожидания»!
О раздробленности - разъятости внутреннего мира героя переходной эпохи старший современник Антона Павловича Чехова Август Стриндберг писал в предисловии к пьесе «Фрекен Юлия»: «В качестве современных характеров, живущих в переходную эпоху… я изобразил свои фигуры более неустойчивыми и раздвоенными… Мои души представляют собой обрывки книг и газет, осколки людей, отрепья изношенных и праздничных одежд и как бы состоят из сплошных заплаток» [2, с. 164-165].
Именно такой путь от дискретности - к целостности и проходят все герои спектакля. Чудесным образом жизненный опыт трансформируется в опыт метафизический. Уже для нас, зрителей. Естественно, при условии усилий духовного порядка. Тем более что мощная психическая энергия актеров властно затягивает нас в свою ураганно-вихревую воронку. Вопреки советам Гамлета, здесь так «рвут страсти в клочья», что «небо» (сценическое пространство) то кажется «с овчинку», то обретает вселенский масштаб.
Перед нами - уникальный пример предельного, абсолютного, актерского существования «на грани» - откровенно пронзительного, безжалостного. Какая же нужна для этого профессиональная и человеческая отвага! Но именно поэтому и возникает драгоценное доверие. До-верие - достойное веры. Прежде всего, в Чехова, которому режиссер доверился и выбрал его своим Вергилием в своем экзистенциальном путешествии. Приглашенный в это путешествие зритель становится своеобразным свидетелем перехода. Там, где яркий свет, там, «за порогом бытия», больше никому не нужно кричать о своей боли, взывать и отчаиваться. Крик души о своем спасении, о возвращении к целостности услышан.
***
Пройдя через мучительный кризис, герои оказываются не в тупике, а напротив, обретают себя, подлинных. Если угодно, это их звездный час, озаривший все существование светом истины. Вот тут-то и вспомнится египетская «Книга мертвых», современное и условное название которой никак не отображает ее смысла. «Слово устремленного к свету». Или - «Речение выхода к свету дня». Именно - выхода. И - к свету дня.
Для героев спектакля - не столько после завершения земного бытия, а как результат преодоления страха перед жизнью, а значит, и победы над смертью.
…Быть может, в глубине тоннеля где-то и есть заветное «небо в алмазах»? Спектакль буквально заставил внимательно перечитать финальный монолог - прорыв Сони и обратиться к тексту «Книги мертвых». «…там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, мы плакали, нам было горько… Бог сжалится над нами…» [3, с. 115].
«Я не чинил зла… не совершал греха… не творил дурного… я чист!» Это из так называемых оправдательных речей в «Книге мертвых» [4, с. 47-48].
«Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…» [3, с. 116].
«В темных водах вижу месяц, в небе мчится дивнокрылый, златокольчатые блуждают звезды сверху и звезды снизу» [4, с. 57].
Это сопоставление вызвало в памяти финал чеховского шедевра «Студент», написанного всего за несколько лет до «Дядя Вани». «…чувство молодости, здоровья, силы… и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла» [5, с. 309].
Для авторов спектакля и внимательных зрителей искусство Антона Павловича Чехова выступило проводником жизнетворчества, которое и помогло совершить метафизическое усилие по преодолению отчаяния.
Галина ВЕРБИЦКАЯ,
театровед, театральный критик, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.
театровед, театральный критик, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.
Фото Руслана ЮЛТАЕВА.
Литература:
1. Н.Г.Чернышевский. Полное собрание сочинений: В 15 т. – М.,1950. – Т. 5. – С. 156-174.
2. Хрестоматия по истории западно-европейского театра на рубеже ХIХ-ХХ веков. – М.-Л.: Искусство, 1939. – 378 с.
3. А.П.Чехов. «Дядя Ваня». Полное собрание сочинений: в 30 тт. – Т. XIII. – М.: Наука, 1978. – 527 с.
4. Книга мертвых: Антология / Сост., вступ. ст. И.Ю.Стогова. – СПб.: Амфора, 2001. – 317 с.
5. А.П.Чехов. Студент. – ПСС: в 30 тт. – Т. VIII. – М.: Наука, 1977. – 528 с.
 15-04-2025
15-04-2025  (0) Просмотров: 188 Номер: 26(13861) Версия для печати
(0) Просмотров: 188 Номер: 26(13861) Версия для печати