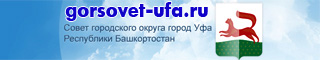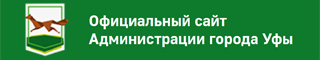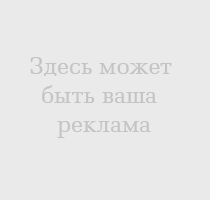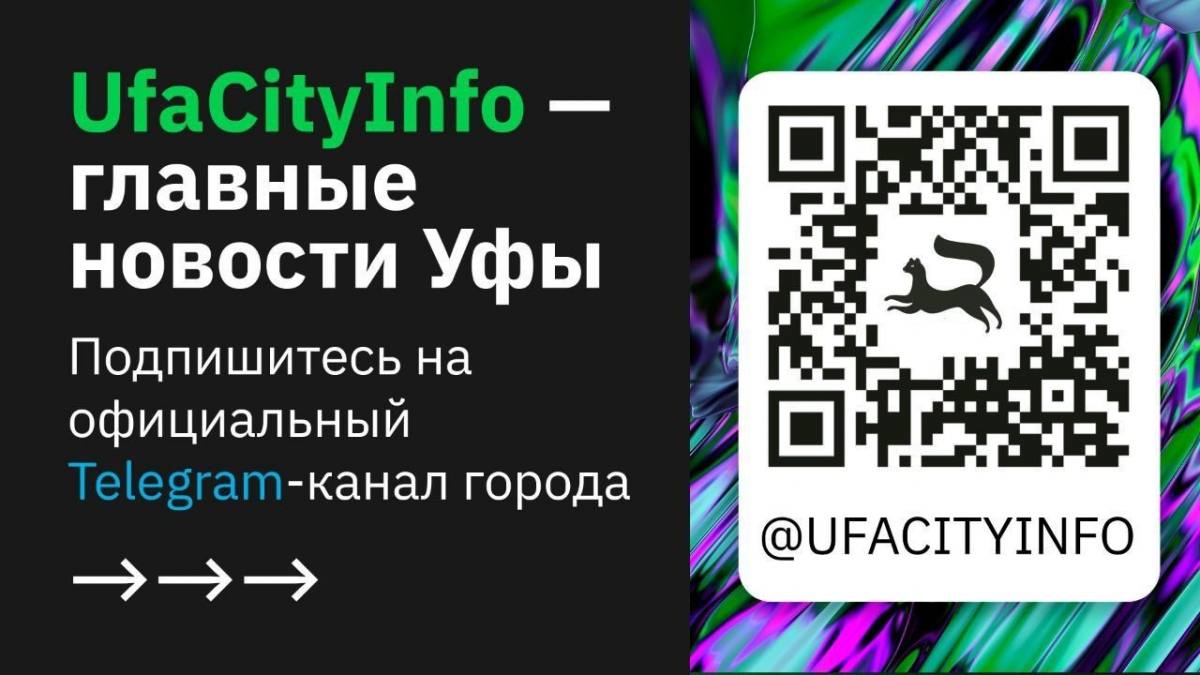«Боги мои, дайте мне силы!»
Каждый раз, погружаясь в историю Башкирского театра оперы и балета, восхищаюсь, какие яркие звезды сияли на его сцене, радуюсь, что со многими корифеями успела познакомиться, пообщаться. Радуюсь, но и огорчаюсь по поводу того, сколь беспощадно время, многие имена несправедливо забываются. А ведь кроме того, что речь идет о немеркнущих талантах, настоящих профессионалах, эти люди были еще и незаурядными личностями, со своей интересной, порой драматичной дорогой в любимое искусство.
В конце девяностых во время подготовки к празднованию шестидесятилетнего юбилея БГТОиБ в числе других ветеранов я навестила Серафиму Михайловну Федотову, яркую певицу 1950-60-х годов, в пору, которую мы называем золотым веком Башкирского оперного. Ей ко времени моего визита исполнилось восемьдесят четыре года. Жила совсем одна в хрущевке на проспекте Октября. Самыми близкими людьми для нее тогда были работники социального отдела Октябрьского района. Их помощь – не только походы в аптеки и магазины. Выслушивать исповеди подопечной им, в силу душевной тонкости, не в тягость. Они знали ее жизнь в таких деталях, что иным родственникам и не снилось.
Серафима Федотова… Поклонники театрального искусства старшего поколения ее, к счастью, еще помнят, а вот молодым хочется рассказать об этой певице. Более двадцати лет ее красивое лирико-драматическое сопрано диапазоном в три октавы восхищало специалистов и радовало публику. Ярославна («Князь Игорь»), Лиза («Пиковая дама»), Настасья («Чародейка»), Наташа («Русалка»), Тамара («Демон»), Джемма («Овод»). Аида, Тоска… Все ее героини любили, страдали, боролись, жертвовали собой. И позднее, когда из-за травм и болезней она оказалась пленницей четырех стен, ее душа жила, кажется, впитанными некогда сполохами счастья и восторга, волнения и мучения оперных героинь, созданных радостями и муками великих композиторов.
Мир реальный диковинно переплелся с иллюзорным, и кто разберет – Аида или она сама отправляет к небу молитву: «Боги мои, вас молю, я молю! Дайте мне силы горе снести!..»
«Мамочка, для тебя существует только музыка», - часто говорил ей сын Лева. Сима с детства играла на гитаре, балалайке. Родилась и росла в Саранске в большой трудовой семье, где все были музыкальны. Старшая сестра пела в соборе, а мамин брат – в московской филармонии у самого Белоцерковского (кстати, известный музыкальный общественный деятель Митрофан Кузьмич Белоцерковский в первой половине 1940-х годов был художественным руководителем Башкирской государственной филармонии). Сколько помнит себя Сима, она мечтала петь. «Я счастлива, что моя мечта осуществилась!» - с удовлетворением повторяла Серафима Михайловна.
…А путь к профессии оперной певицы был трудным и долгим. После семилетки – по году в музыкальных училищах Саранска, Пензы. Десять лет пела в хоре Саранского театра. И только после этого отправилась в Москву. Ни больше ни меньше – в консерваторию. Немного напоминает киношную Фросю Бурлакову. В столице никого не знает, переночевать негде, а уже стемнело и пошел дождь. Какая-то женщина сжалилась и пригласила к себе.
Симу прослушали, голос понравился, но общеобразовательные предметы сдала на двойки. Какая уж тут консерватория… Ее утешала Антонина Васильевна Нежданова: «Деточка, у вас прекрасный голос, вы будете петь!»
Помогло рекомендательное письмо к профессору Сперанскому: он позвонил Елене Фабиановне Гнесиной. Серафиму зачислили на вокальное отделение музыкального училища при Гнесинке, которое она окончила в 1951-м.
Несколько лет проработала в Душанбе, а с 4 мая 1954 года судьба Серафимы Федотовой неотрывна от Башкирского театра оперы и балета. Первая партия, которую исполнила на уфимской сцене, - Ярославна, и пела ее всю творческую жизнь. Пожелтевшие газеты разных российских городов, где гастролировал наш театр, хранят восторженность ее мастерством и эмоциональной выразительностью. Последний раз спела партию нежной и верной русской княгини в 1973 году. «Это твоя лебединая песня», - сказал тогда коллега Леонид Морозов.
Серафима Михайловна помнила всех партнеров по именам, говорила о каждом коротко, но ярко. «Магафур Хисматуллин – певец от Бога, такой Салават долго не повторится! Владимир Голубев – идеальное ухо, прекрасный Онегин, Елецкий, Фигаро… Петр Аникиенко – великолепный бас и обаятельнейший человек, весь театр был в него влюблен, пели вместе в «Русалке» … И так бесконечно.
Благодарно говорила о «трудолюбивой умнице» Магафуре Галиулловне Салигаскаровой, которая перед постановкой «Чародейки» заявила: «Вот вам готовая Настасья-Кума – Федотова!» Пять лет Серафима с успехом пела в этой опере Петра Чайковского и очень полюбила образ простой русской женщины, отстаивающей до конца свою любовь и достоинство.
Припомнила певица знаменательный эпизод: во время премьеры «Демона» у исполнительницы партии Тамары пропал голос. Занавес закрылся, публика – полный зал – целый час ждала. Певица попыталась продолжить, но снова неудачно. Все в панике, отчаянии. Кто-то сказал: «Федотова знает партию». Ее срочно одели, на ходу подгоняя костюм, парик. Без репетиций спела Тамару! И вторую премьеру успешно провела. Даже приказ по театру выпустили – с благодарностью, что спасла (так и было написано!) спектакль.
Запомнилась работа с Юлием Мейтусом, замечательным композитором, учеником Римского-Корсакова. Он приезжал в Уфу для постановки своей оперы «Братья Ульяновы». Серафима Михайловна исполнила роль Марии Александровны. Работала с увлечением. Помню, она сказала: «О семье Ульяновых несправедливо и говорят, и молчат. А ведь Мария Александровна – одна из самых удивительных женщин своего времени». С гордостью певица показала открытку от композитора, где он назвал ее работу над образом «чудесной, талантливой». Позже, в Челябинске, после «Русалки» в гримерную к ней вошли с улыбками и огромным букетом цветов Мейтус и Вадим Козин.
Наташа из «Русалки» - одна из любимых партий. Когда пела с солистом Большого театра Алексеем Кривченей (Мельником), тот сказал: «Ни в одном театре не встречал такой Наташи!»
И Лизу из «Пиковой дамы» она очень любила. И Аиду. И Тоску. Вообще все, что наша героиня пела, становилось частью ее самой. Тонко воспринимала текст. Пушкинский, лермонтовский – любой. На сцену выходила не Серафима Федотова, а Ярославна, Тамара, Лиза… Даже когда пела Кошку (на ее счету 200 спектаклей «Кошкин дом»), не позволяла себе расслабиться, продумывала каждую деталь, и ее сильный голос, бархатный тембр делали «пушистую героиню» нежной и обаятельной, дети были в
восторге.
Ее любили дирижеры. А работала она с Вощаком в Минске, Шерманом в Горьком, Сабитовым, Руттером, Муталовым и другими в Уфе.
Четыре часа мы проговорили, до самых сумерек. Говорила, конечно, в основном Серафима Михайловна. А еще – пела, декламировала, изображала, плакала… Кроме меня была еще одна слушательница и зрительница – заведующая районным отделом социальной помощи Фарида Акбузаровна Валиуллина. Какое все-таки благородное дело они взяли на себя! Не знаю, как сейчас – времена изменились, четверть века прошло, но тогда в ножки хотелось поклониться этой армии социальных помощников. Спасателей.
Фарида уже привыкла, а я не переставала изумляться: вопреки всему Серафима Михайловна сохранила вкус к жизни, интерес к людям. Пианино стояло не для роскоши, хотя после травмы по-настоящему играть, брать полноценные аккорды не могла. Радио, телевизор – окна в мир. Знала по именам ведущих, особенно музыкальных передач Восхищалась только что прослушанными операми: «Турандот» Пуччини, «Лючия ди Ламмермур» Доницетти. Запоем читала, хотя глаза уже подводили. Интересовалась историей. Любимый герой Салават Юлаев. Считала, что в школе каждый ученик должен знать биографию этого воина, учиться у него любить родину…
Ей хотелось побольше узнать о людях, с которыми работала. В День пожилых людей привезли пироги из театра – событие, праздник: вспомнили! Рассказала, как однажды к ней приехал, будучи директором театра, Радик Гареев. Низко поклонился, прикоснувшись рукой к полу, и сказал: «Спасибо за все, что Вы сделали для театра, для искусства!»
Болезни, инвалидность, неутихающая боль от потери сына, воспоминания о драматических и трагических событиях, коих немало было в ее жизни… Другой давно бы сломался. Только не Серафима Федотова. Не зря она переиграла столько красивых, сильных духом героинь. Или в самом деле Боги давали ей силы?!
Нина ЖИЛЕНКО.
НА СНИМКАХ: Серафима Федотова в опере Спадавеккиа «Овод» (Джемма) и в опере Даргомыжского «Русалка» (Наташа; в партии Русалочки - юная Диляра Юсупова).
Фото из архива автора.
НА СНИМКАХ: Серафима Федотова в опере Спадавеккиа «Овод» (Джемма) и в опере Даргомыжского «Русалка» (Наташа; в партии Русалочки - юная Диляра Юсупова).
Фото из архива автора.
 15-08-2025
15-08-2025  (0) Просмотров: 63 Номер: 52(13887) Версия для печати
(0) Просмотров: 63 Номер: 52(13887) Версия для печати